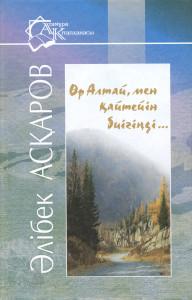ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ, ВЫСОКО В ГОРАХ/Повесть о любви
Көру онлайн файл: 3-odnazhdy-osenju-povest.pdf
ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ В ГОРАХ
повесть
На сегодняшний день именуюсь я каким-никаким, а все же писателем, но изначально происхожу из племени художников. Четыре года своей звонкой молодости я отдал обучению в Алматинском художественном училище, по окончании которого вышел нормальным дипломированным специалистом. Это позднее свернул я на писательскую тропу, словно залез в чужой огород... Так что в обширном сообществе художников у меня предостаточно и ровесников, и друзей, и просто знакомых.
Один современный искусстовед охарактеризовал меня как «художника среди писателей и писателя среди художников». Я так и не уразумел, похвала это или ирония. Однако в данном определении ощущается аромат истины.
Вообще художники – народ замкнутый, сторонятся общества, бегут от политики, предпочитают быть отшельниками. Мир их особенный, видение и взгляд иные, чем у остальных, необычайно восприятие суетной, полной противоречий жизни. Эти «мастера кисти», как правило, длинноволосы с обвисающими усами и бородой, прямодушны и с ленцой. Но если подобрать к ним ключ, разговорить их, то остановить потом будет делом нелегким. Им неведомы лицемерие и подхалимаж, и в располагающей обстановке они вдохновенно выскажутся по любому поводу, называя вещи своими именами.
Как-то в одну из очередных поездок в Алматы мне довелось целый день провести в животрепещущей беседе с таким вот длинногривым собратом по ремеслу, моим земляком и давним знакомым. Как выяснилось, ему на глаза случайно попался мой рассказ из цикла «Благоразумие женщины». Узнав фамилию автора, он решил прочесть рассказ, больше из любопытства, нежели из любви к литературе.
Художник-земляк первым делом поделился со мной своим впечатлением от прочитанной новеллы. Затем обронил, рассеянно улыбаясь: «Вообще, я тоже пережил одну историю, имеющую отношение к женщине». «Ну, раз так, то рассказывай», - приступил я к нему решительно.
Сосредоточившись, художник сидел некоторое время, не зная, с чего начать. «Я не знаю, насколько это соответствует твоим запросам и требованиям, - сказал он с затруднением, - обычная история, приключившаяся со мной..., если придать ей более художественный вид, может, что и получится?»
Но несколько пропущенных рюмок дали о себе знать, и мой собеседник воспрял духом, глаза его заблестели. Начал он рассказ с таким трудом, точно аршин проглотил, а дальше все пошло как по маслу. Понесся как чистокровный скакун на байге, не догнать. Да и у меня в эти дни не оказалось каких-то неотложных дел, и я не стал его удерживать, неспешно дослушал до конца.
В Астане я не сразу смог приступить к написанию рассказа, дела по службе не оставляли свободного времени, да и духу не хватало, надо было созреть. Наконец я все же собрал волю в кулак и сел писать ту историю.
По этическим соображениям, учитывая, что персонажи ее - здравствующие и поныне реальные люди, я изменил их имена.
Вот о чем поведал мне тогда художник по имени Жанимхан.
001.
Конец девяностых. Если не забыл, лето 1998 года. На обломках погибшей империи нелегко было создать независимое государство, все равно что воздвигнуть гору на голом месте. Экономика страны пришла в упадок, положение народа было плачевным.
Ветер перемен этих лет особенно грубо прошелся по нежным душам людей искусства. Многие из них, задушив на корню Богом дарованный талант, поправ ремесло и предназначение, разбрелись, кто куда. Когда семейные проблемы обступили со всех сторон, некоторые бросились в торговлю, занялись куплей-продажей. Другие, не найдя опоры в убогом существовании, начали пить и дни напролет шатались по улицам. Так, от творческого огня остались одни тлеющие уголья, да и те грозились погаснуть.
Эти годы и на моей жизни сказались разрушительно.
При одном воспоминании о том времени грудь моя сжимается, и душа стонет. Безрадостные, серые дни складывались в месяцы, месяцы – в шаткие смятенные годы. Так и мотался я неприкаянно, как обкурившийся опиума. Потеряв ориентир жизни, жарился точно на адском огне. И поведение мое, и действия лишились смысла. Все валилось из рук, да и творчество мое, как истощенная почва, постепенно перестало приносить плоды и вскоре совсем замерло. Целыми днями я мог сидеть без движения, без мысли, без цели. Поймаю, бывало, за кончик одну мысль, пробую овладеть ею полностью, как вдруг она выскользнет из рук, рыжей лисицей мелькнет и скроется за холмом, только ее и видели. Чувствую лишь, что опустевшая грудь моя гудит, как высохшее дупло. И мечусь в поисках выхода из тупика, поедом ем сам себя, теряю остатки надежды. Брожу, как полоумный по улицам, по склонам Алатау. Голова моя пухнет, словно ищу что-то и никак не могу найти.
Не ведая, что ищу, чего жажду, изнемогаю под игом этого наваждения.
002.
И вот в этот тяжелый для меня период истощения всех душевных сил мне случайно повстречался мой давний друг Ералы.
Ералы смолоду осел в родных краях, и мы не виделись с ним целый век. Встреча наша, как и подобает случаю, была шумной и радостной.
Оказалось, что Ерекен нынче солидный руководитель в районе и приехал в Алматы на совещание по работе.
- Вижу я, дела у тебя не ахти как идут? – спросил он, понижая голос. – Ты бы это... приехал в родные места, отдохнул, а?
Это были слова жалости. Моя исхудалая, как после тифа, фигура заставила, видно, вздрогнуть сердце приятеля.
- Отдохнуть, говоришь? – бормотнул я, не найдя слов на внезапное предложение Ералы.
Если говорить начистоту, то я и сам хотел сбежать, куда глаза глядят. Покинуть бы этот опротивевший город и бесследно исчезнуть... И это предложение Ерекена было мне как нельзя кстати. Что ж, на ловца и зверь бежит.
- Поеду, - закивал я как одолеваемый мухами конь. – если и вправду приглашаешь, почему бы не поехать?..
Ералы развеселил мой ответ, и он отрывисто рассмеялся.
- Когда бы ты ни приехал, я готов, - сказал он затем, – но лучше тебе приехать осенью, когда хозяйственные дела упорядочатся. Посвободней со временем, да и природа Алтая осенью так хороша! Лучшее время для художника.
003.
Словом, Ералы пообещал встретить меня и создать все условия. На том и распрощались.
Несмотря на данное другу обещание, я вдруг погрузился в сомнения, и мной овладело смущение. Дело в том, что я почти двадцать лет не был в родных краях. Так получилось, что, уехав когда-то в город на учебу, я словно забыл дорогу в аул. Едва оперившимся птенцом покинул я родину, а теперь мне перевалило за сорок. Позор-то какой! В поисках своего предназначения и становления на пути искусства я не заметил, как оторвался пуповиной от аула.
«Как же мне теперь вернуться туда, что сказать?».
004.
Встреча моя с Ералы произошла в августе, Я сумел обуздать смущение и вознамерился ехать по его приглашению в аул. Сборы в дорогу тянулись почти месяц. Я почистил этюдник, купил целую стопку акварельной бумаги для этюдов, несколько коробок масляных красок. И вот, в середине сентября, взвалив на себя свою поклажу, тронулся я в сторону Алтая.
Друг мой Ералы сдержал слово и лично сам радостно встретил меня на границе района.
- Подготовил тебе удобный дом на дне ущелья. Будешь жить там и это... творить свои произведения. Отдохнешь хорошенько, – сообщил он, сажая меня в свой серый «уазик». И мы, не мешкая, двинулись в путь.
005.
В наших краях был отдаленный аул Аршаты. Я слышал о нем, но никогда не бывал там. Этот Аршаты считается самым крайним населенным пунктом на восточной окраине казахской земли. Дальше уже идет Монголия, с юга – Китай, с севера – Россия. В сорока километрах от Аршаты расположена Шындыгатайская застава. Это тоже последний пограничный пост нашей страны.
До Аршаты мы тряслись почти полдня. Приготовленный для меня дом оказался сторожкой, где время от времени останавливались лесники, работавшие вахтовым методом. Эти одинокие дома, затерявшиеся в горах, лесники называют кордонами.
Кордон, куда меня доставили, находился в километрах пяти от Аршаты, при входе в глубокое ущелье, на берегу речки Таутекели, с грохотом несущей свои пенистые воды. Местность носила название «Тайпак»*. Дом стоял на плоской, ровной площадке, похожей на выпас для скота, что вполне вязалось с названием.
От самого дома начинался густой лес – высокие сосны, величавые кедры. Ниже выстроились пышные белотелые березы. Ослепительная белизна берез были отрадой для глаз. Под раскидистой кроной одной из них стояла деревянная скамейка с покосившейся спинкой. За домом на склоне можно было разглядеть извилистую тропинку. Она вела в густые заросли кустов караганника и терялась в темном сосново-кедровом лесу. Дальше зияло наводящее страх ущелье, склоны его состояли из утесов с каменными осыпями, которые чередовались с мрачными лесистыми горами.
Мы подъехали к дому лесничего и принялись дружно осваивать две его просторные комнаты. При входе в дом - небольшая веранда с двухместной подвесной скамьей. На двери была прибита старая подкова, истончившаяся и покрытая ржавчиной. Неподалеку, у самой речки виднелся приземистый домик.
- Баня! – возвестил Ералы, кивая на него, – когда захотел - затопил и искупался.
Я понял, что эта местность с первозданным покоем и тишиной как нельзя лучше подходит и для моего отдыха, и для творчества.
006.
Один из мужчин ловко зарезал и разделал барана, двое других занялись разжиганием огня под казаном. Еще один расщепил дрова на мелкие щепки и колдовал вокруг медного самовара.
На веранде установили продолговатый стол и накрыли пестро-красной скатертью. На дастархане лежали кругляки казы и карта, соленые огурцы и грибы. Кое-где мерцали в плошках мед и малиновое варенье.
- В доме душно, - сказал Ералы, - посидим на веранде, расслабимся на природе, поговорим по душам.
«Ладно, - подумал я, - по душам так по душам. У меня секретов хватает! Много лет я сидел запертым в постылом городе и истосковался по таким разговорам».
Тайпак* - плоский
- Мне не нужен ни помощник, ни повар, - обратился я к Ералы. – Я ведь сбежал от городского шума и суеты. Хотел бы побыть один. Надо поразмышлять, разобраться в своих мыслях, прийти в себя.
- Хозяин-барин, - сказал Ералы. – Но вот этот Мунарбек все же будет подле тебя, да и то наездами, дров наколоть там, мясо сварить. Все-таки какой-то помощник под рукой тебе пригодится.
- Ну что ж, пусть будет так, - согласился я.
- Какой еще у тебя буйымтай*, говори прямо, как есть, - не унимался друг в своем рвении услужить мне.
- Буйымтай, говоришь..., да нет, спасибо за все.
- Мешать не будем, можешь работать, не отвлекаясь, - подытожил Ералы.
- Ну-у... если есть возможность... тут у меня одно пожелание...
- Не тушуйся, говори, я весь внимание.
- Вот что... сейчас ведь осень, у оленей начались брачные игры. Можно ли будет посмотреть на бодающихся самцов?
Ерекен повернулся к Мунарбеку. Тот в ответ захлопал глазами.
- Мунарбек, ну как, сможешь показать такое дяде художнику?
- Ойбуй, агай**, откуда? И как мне знать, в каком ущелье, в каких горах они собираются, где дерутся? Олени же мне не докладывают!
Ерекен рассмеялся.
- Сам слышал, - сказал он мне, - увидеть оленей, которые бодаются, наверное, будет трудно.
- Я несколько лет занимался профессиональной охотой, - Мунарбек словно оправдывался. – Вот эти горы обошел вдоль и поперек. И мне ни разу не попались на глаза дерущиеся олени.
- Ладно, - Ерекен похлопал Мунарбека по спине. – Не сможешь показать, как олени бодаются, свози агая на горного козла. Для городского художника и это – развлечение выше крыши.
007.
Мы с Ералы еще долго сидели за разговорами при свете керосиновой лампы. Высказали много наболевшего, отвели душу.
Мой родной аул находился в следующем глухом уголке района, в горной ложбине. Я остался без отца еще ребенком, да и матери уже не было на белом свете больше двадцати лет. Вот таким босым и раздетым сиротой я отправился когда-то в город учиться. В ауле оставался единственный брат, но и тот много лет назад переехал с семьей в Караганду. Так что там у меня не осталось никого из родных и близких. Но все же это был мой родной аул, я там родился и вырос. Ералы рассказал о положении некоторых знакомых и одноклассников. Да, в это лихое время никто из них не жил в благоденствии.
Буйымтай* - причина визита, о которой, по обычаю, обязан спросить хозяин у гостя. Агай**, ага – почтительное обращение к старшему.
В ауле работы убавилось, бывшие когда-то хозяевами жизни вчерашние парторги, зоотехники, агрономы остались без дела и тешились пустыми хлопотами да грезами о былом. Похоже, роли мужчин и женщин поменялись местами. Многие представители сильного пола потеряли работу и раскисли. Их честолюбивые жены пустились во все тяжкие, чтобы прокормить семьи. Мужчины сидели дома и смотрели за детьми, а женщины возили из города вещи. Продав привезенные товары, они обеспечивали семью пропитанием.
Их народ прозвал «челночницами».
После полуночи Ералы засобирался в путь, вспомнив, что ему с утра надо ехать в город. Уезжая, он оставил ружье и целую коробку патронов. Ерекен сообщил мне, что уже позаботился о лицензии для меня на отстрел одного горного козла. Также друг предупредил о том, что в этой глухомани обитают рыси, волки, да и медведь попадается.
- Спасибо, - поблагодарил я, - на охоту-то вместе пойдем?
- Вряд ли я сам смогу, но тебя на охоту вывести люди найдутся.
Решив возвращаться в аул в машине начальника, четверо обслуживавших джигитов опрокинули казан вверх дном и начали убирать со стола. Они усердно втолковывали мне о необходимости часто подбрасывать дрова в печь, так как ночью может быть холодно.
- Да ладно, - сказал я, - ночь вроде теплая, не замерзну, поди.
У меня была привычка в чужом месте просыпаться рано, и я подумал, что до утра дом не остынет.
Все собрались, завели машину, и она тут же растаяла в ночной мгле. Гул машины слышался до самой Бухтармы, что находилась у подножия. После этого по ушам ударила тишина. Лишь от реки доносился приглушенный шум воды. Тиха была алтайская ночь, все вокруг погрузилось в мертвое безмолвие.
Я долго не мог сомкнуть глаз, все прислушивался.
008.
Напрасно я сказал, что в чужом месте рано встаю. Роняя слюни и обняв подушку, я проспал, накрывшись одеялом с головой, до самого обеда.
Проснулся от стука в дверь.
«Что это за стук?»
Не понимая, где лежу, я кое-как разодрал глаза и еле поднялся с постели. И вправду, кто-то тихо постукивал в дверь.
- Эй, кто там?
- Это же я, Мунарбек. Хотел чай приготовить, стол накрыть.
- Сейчас открою.
Дом остыл, дрова в печи давно сгорели.
«Эх! Надо было все-таки подняться ночью, дров подкинуть...»
Одеваясь, я никак не мог взять в толк, который из вчерашних четырех Мунарбек.
Я поднял дверной крючок, там стоял смуглый джигит с усами торчком. И тут же мне вспомнилось, что это тот самый, кто должен вести меня на охоту. Слышал, как Ералы поручал меня ему.
- Ассаломагалейкум, ага, как отдохнули?
- Спасибо, все хорошо. Если б ты не пришел, видать, до вечера бы спал.
- Ничего, вы ведь отдыхать приехали, можете спать хоть целыми сутками. В доме остыло, я сейчас огонь разожгу...
Мунарбек волчком завертелся, забегал по домашним делам. Я накинул куртку и вышел на воздух.
Постоял на веранде, с наслаждением глотая чистый воздух и поглядывая по сторонам. Затем обернул полотенце вокруг шеи и, захватив необходимые принадлежности, отправился мыться в сторону речки.
009.
После густого, со сливками, чая, которым угостил меня Мунарбек, я опять окунулся в сон... Обычно днем я не мог себя заставить спать, но здесь не переставал зевать, разевая рот как рыба. Все тело мое расслабилось, я почувствовал приятную истому, похоже, то же самое испытывает мартовский кот.
- Я положил в казан мясо. Разогреть пока вчерашнее? – спросил Мунарбек.
- Нет, не беспокойся. У меня сейчас нет аппетита.
- Ну тогда разбужу вас, когда мясо сварится.
- А сколько мясо варится?
- Примерно два часа.
- Тогда не торопись. Разбудишь меня к вечеру.
- Я затоплю баню. Вечерком хорошо в баньке попариться.
- Как хочешь.
Мунарбек и впрямь до вечера не стал будить меня. Я сам проснулся, когда уже стемнело. Возможно, и не проснулся бы, да меня разбудил жалобный детский плач. Я вскочил, и, не понимая, в чем дело, огляделся по сторонам. На столе стояло большое блюдо с мясом, от него шел пар. Дверь со скрипом отворилась, и вошел Мунарбек. Я уставился на него.
- Испугались чего-то, ага? – спросил он.
- Много сплю, наверное. Да и дверь тут заскрипела…
- Садитесь к столу.
Я взглянул на гору мяса в блюде и засмеялся:
- Кто же все это будет есть? Или еще какие-то гости у тебя намечаются?
- Все ваша доля, агай!
- Не надо было так беспокоиться! Мне бы полжилика* хватило.
Жилик* - трубчатая кость с куском мяса.
Сказал я так и почувствовал, что проголодался. Я взялся за мясо и, истекая жиром, некоторое время увлеченно ел. От сытной еды я опять раззевался, потянуло ко сну. Да что это за напасть? Помыв руки, я снова было прилег, но тут Мунарбек сказал:
- Ага, баня готова. Полотенца, простыни,- все там.
Это была хорошая идея, и я начал собираться в баню.
010.
Будь благословенна баня – услада души! Оттуда я вернулся совсем другим человеком: тело мое расправилось, дух взбодрился.
В печи пылали дрова, потрескивала сосновая смола. В доме было натоплено как в той же бане. Мунарбек разделся до майки, пот с него катил градом.
- Ночью огонь может потухнуть, замерзнете, я в той комнате заночую, - сказал он.
- Как знаешь.… А невестка искать тебя не будет?
- Нет, не будет. Мы неделями мотаемся по горам по долям. Невестка ваша к такой жизни давно привыкла.
Я прикорнул после бани и проснулся лишь наутро с восходом солнца. И опять голова моя была тяжелой. Как зверь в спячке, лежал бы и лежал, свернувшись.
Мунарбек по-своему определил мое состояние:
- Организм ваш отравился чистым воздухом.
- Разве можно отравиться чистым воздухом?
- Еще как! Ваш организм ведь привык к городскому смогу. Через пару деньков восстановитесь.
011.
Похрапывая, проспал я и этот день.
После полудня, оказывается, приезжал специально поприветствовать аульный аким, да не решился будить, посидел с полчаса и уехал.
- Ах как неудобно получилось, что ж ты не разбудил меня? –расстроенно сказал я Мунарбеку.
Но Мунарбека нисколько не задело мое недовольно сморщенное лицо: «Да это ж рядом совсем, не один раз еще приедет», - обронил он, шмыгнул носом и важно удалился по своим делам.
Я вышел из дому подышать воздухом, погулять по окрестностям. Спустился к большой березе со скривишейся скамейкой. Это возвышенное место на самой кромке леса было удобным для отдыха. Как на ладони было видно отсюда темную дорогу, бегущую вдоль всей горной теснины от Шындыгатая, разлившуюся и сверкающую переправу.
Только я присел на скамейку, как тут же снова потянуло в сон, начал зевать...
«Нет, так не пойдет, - подумал я удрученно, - если этот Тайпак не внесет в мою жизнь какие-то изменения, не всколыхнет каким-то вдохновением, - пропаду я тут, потеряюсь».
С надеждой на добрую новизну смотрел я в будущее.
012.
С потолка свисала старая люстра, плафоны ее пожелтели и были засижены мухами. Судя по этому, когда-то на этом кордоне было электричество.
На стене рядом с почетным местом висела оленья голова с огромными ветвистыми рогами. Голова смотрела на мир вставленными в глазницы блестящими камнями-пуговицами. Точно такое чучело было прибито над входом в дом. Симпатичная голова косули с торчащими рожками. И она смотрела на меня в упор, точно ждала чего-то или умоляла о чем-то.
Все эти животные когда-то бегали-скакали по окрестным лесам. Сняв с них шкуру, охотники съедают мясо, а из головы делают вот такие чучела. Чучело обычно крепится к красивой резной доске и вывешивается на видном месте как декоративное украшение. Изготовление таких чучел тоже не каждому дано, это один из видов народного прикладного искусства. Я слышал, что такие мастера в большом почете среди охотников и называют их «таксидермистами».
В городе мне приходилось видеть немало подобных чучел. А у одного знакомого скульптора такое украшение висело в мастерской. Но это был не олень и не косуля, а антилопа гну. Да, африканское парнокопытное, внушающее трепет своим видом. Скульптор этот бывал в Африке разве что в мечтах. И откуда взялась у него эта антилопья голова, - об этом молчок.
На стене, поближе к углу - одинокая полка. Судя по разводам, полку протирали недавно, в спешке, скорей всего, перед моим приездом. На краю полки прислонилась книга, толстая, как кирпич. Мне стало любопытно, и я снял ее посмотреть. Обложка была растрепанная, по ней невозможно ничего понять. Первые страницы выдраны, видно, использованы в качестве туалетной бумаги. Пробежался по буквам. Оказалось, «Дон Кихот» Сервантеса. Перевод на казахский язык. Старое издание, пожалуй, в детстве я прочел именно такую книгу. Я поставил «Дон Кихота» на место и вытащил из чемодана свои четыре книги. Предполагая, что отдых мой здесь затянется на месяц, я прихватил их почитать. Но пока ни одну из них не окрывал. Я отнес книги на полку и выстроил их в ряд.
013.
В полночь я ненароком проснулся и больше не смог уснуть. Из соседней комнаты слышался какой-то странный звук. Оказалось, это Мунарбек. Вместо храпа у него получался хрип недорезанного животного. Заткнув уши, я долго ворочался, скрипя кроватью. Но ничего не вышло, сон улетучился.
Я зажег спичку и посмотрел на часы. Было что-то около четырех часов. Оделся и вышел наружу. Все вокруг было залито матовым светом луны. Час предрассветных сумерек. Природа пребывала во власти приятного томления. Было зябко, по ущелью гонял холодный ветер. Горы опоясывал сизый туман. Охристая равнина внизу была пронизана глубоким голубым светом.
«Как же я мог спать, когда вокруг такая красота!».
Морская голубизна утра накануне восхода играла неведомыми мне оттенками. Редко встречающийся в жизни колорит, гармония формы и цвета. Пытаясь удержать в памяти это чудо, я вглядывался до онемения в глазах, впитывал его в себя, изучал. Такое сочетание красок не сыщешь днем с огнем, поэтому не передать словами живописный вид ночи, ее лирическое воздействие. Лучше всех изобразил лунную ночь художник Архип Куинджи. Однако, видит Бог, даже в его шедевре «Лунная ночь на Днепре» нет такого сложного сочетания красок. Что же делать? Чтобы начать прямо сейчас писать этюд, придется зажигать лампу. Ну а при свете лампы краски на этюде всегда выглядят обманчиво. Наутро приходится удивляться: «А это что за краска, а то что за мазня?». В таких случаях остается лишь надеяться на память глаз и силу впечатления.
Со стороны гор послышался трубный рев оленя. Через некоторое время из другой чащи ему ответил его собрат. То были грозные кличи самцов, вызывающие друг друга на состязание. Я много раз слышал о поединках оленей во время гона. На поле брани и любви они скрещивают рога, делая вызов мужеству и чести. Вот бы выпала удача увидеть эту битву! Я бы написал картину, призвав на помощь весь свой талант, весь свой опыт и мастерство. Однако на каких отрогах, в какой котловине исполина Алтая найдешь их? Даже такому бывалому охотнику как Мунарбек не доводилось наблюдать это зрелище.
Мунарбек был тут как тут, тоже проснулся.
- Что же ты, поспал бы еще?
- Да нет, возле вас решил побыть.
- Я три дня спал, как убитый, и выспался на несколько дней вперед.
- Ну, раз так, агай, у меня к вам предложение есть, – сказал Мунарбек. – сейчас приведу коней, оденемся потеплее – и в горы.
- В горы? Зачем?
- На горных козлов посмотрим.
Я обрадовался:
- Ты это хорошо придумал!
Мы спешно собрались в дорогу. Посуду занесли в дом, заперли двери на замок и, повесив на плечо по ружью, вскочили на коней. Мунарбек положил в переметную суму булку хлеба, чай, сахар, дикий лук и мясо. Напоследок он вынес из дому чайник и кастрюлю.
- Эй, зачем тебе все это?
- В горах человек становится прожорливым, - обронил Мунарбек со знанием дела, поднимая вверх указательный палец.
014.
Когда-то, в горячую пору юности и мы, с ружьями наперевес, охотились в этих алтайских горах ...
До сих пор помню, как в самом начале марта ходили стрелять глухарей. Тогда я впервые стал свидетелем такого редкого представления, как токование глухаря. В другой раз по глубоким сугробам мы гонялись за легконогими косулями. И в оба раза вернулись с пустыми руками.
Правда, в одну из зим я поставил западню и поймал двух зайцев. А потом на джайлау целый день сидел в засаде и застрелил жирного, как боров, сурка. На этом мое охотничье искусство заканчивается. Мне больше нравилось рыбачить с удочкой.
А теперь вот ни свет, ни заря вслед за братцем Мунарбеком иду на горного козла. Шеф Мунарбека Ералы расхвалил своего подчиненного как непревзойденного охотника этого края. Поэтому с меня спросу нет, вся надежда на этого отважного джигита с колючими усами. Для меня же эта вылазка - просто возможность провести время, утолить любопытство художника-профессионала, ознакомиться с природой и удивительной красотой этой горной местности.
015.
Мы долго ехали по тесному ущелью, ведомые сиротливой узкой тропой. Езда по скользкой грязи вперемежку с щебнем далась нелегко и нам, и лошадям. С четырех сторон света над нами нависали угрюмые скалистые вершины, и мнилось, что они вот-вот раздавят нас. Да и сама одинокая тропа с обоих боков была стиснута застывшими скалами и понурыми кедрами.
Солнце еще не взошло, и все вокруг было объято предрассветными сумерками. По мере углубления в ущелье нам приходилось все труднее. Утопая в воде до самого лошадиного крупа, мы то переходили на другой берег, то возвращались обратно. Да и речка Таутекели оказалась своенравной, с коня готова сорвать, разбушевалась, поднимая водную пыль и образуя венец вокруг луны. Не было спокойного брода, сплошь пенистые водовороты, нагромождение массивных камней, отвесные обрывы. Только мы, пыхтя, вскарабкались на выступающий гладкий утес, как тут же пришлось жесткой рысью спуститься по извилистой тропинке вниз. Боже сохрани, стоит оступиться, – и полетишь вместе с конем в кипящую реку.
Северная сторона нашего ущелья поросла густым лесом, в беспросветной чаще которого было темно, как в могиле. Такой лес русские называют тайгой. Южная сторона – в теснящихся утесах, вершины их упирались в небо. Поднимешь голову – шапка слетит. Здесь деревья росли не так часто, разве что у самой реки. Рассыпанные по обрыву, они напоминали редкие пучки волос на голове плешивого: то здесь, то там прилепившиеся к камням семейки кедров и разлапистых пихт. Но все же те деревья, что взобрались на вершину, были прекрасны, как чинары на скале.
В одном месте я заметил стоявшую торчком стайку ширяша*. Часто встречалась и рябина, изнемогающая под тяжестью своих алеющих плодов. Попадались густые заросли шиповника.
А вот смородина на склоне была редкостью. Проезжая мимо ее кустов, я захватил пригоршню ягод и попробовал. Пора смородины миновала, ягоды сплющились и засохли. Зато боярышник был созревший, в самом соку. И ее я поклевал на ходу, причмокивая.
Прямо у нас над головой с истошным криком пролетела кедровка. Ох, и пронзительный голос у негодницы! Кедровка кричит – пищу свою защищает, а это признак того, что нынче кедры шишками усеяны. Урожай кедровых орешков для населения – большая удача, нарвут шишек, нашелушат орехов и сдадут государству, - хоть какое-то подспорье, какие-то деньги.
Мунарбек спешился, подошел к самой кромке крутояра и жестом подозвал меня. Во мне зашевелился охотничий инстинкт. Я соскочил с коня и подлетел к нему.
- Вон! – Мунарбек показал на лесную чащу.
- Что это? – спросил я, ничего не замечая.
- Видите, вон там под кустом, темнеет? – Мунарбек указывал на нечто довольно близкое, в метрах ста, не больше. Но почему я не мог разглядеть? Пришлось смотреть в бинокль.
- И без бинокля хорошо видно, - заметил Мунарбек.
- Ты говоришь про чернеющую тень под кустом?
- Ну да…
- Это не кочка?
- Нет, не кочка. Это кабарга лежит.
- Да, вижу! Уши навострила, не шевелится. Не мертвая ли?
- А кабарга такая, ушами не поведет. Замрет, как каменная. Не шелохнется, пока не уйдем.
- Ну, тогда я ее… - сказал я и начал снимать ружье. Мунарбек тихо тронул меня за плечо:
- После вашего выстрела нам другого зверя не видать. И горные козлы, и косули будут за шесть перевалов отсюда.
«Понятно».
Я снова повесил ружье на плечо и направился к коню.
016.
Из глубокого сумрачного ущелья мы вышли на холмистый склон. Солнце показалось из-за уступа горы и начало окрашивать заревом горную гряду. Скорым ходом, оставляя за собой горы и холмы, мы преодолели еще некоторое расстояние.
На очередном пригорке Мунарбек натянул поводья и стал осматривать в бинокль противоположную сторону.
Ширяш* - эремурус, безлистное многолетнее растение.
- Что-нибудь видно?
- Да видно, но далеко стоит.
- Кто стоит?
- Ну кто еще может быть? Горный козел, конечно...
Меня охватил азарт, я вытащил бинокль и тоже обследовал скалы и вершины той стороны. Ничего, достойного внимания, я не заметил.
- Эй, братец, где ты увидел-то?
- Да вон, на верхушке средней островерхой скалы.
Да где она? Все камни и вершины остры, словно пики.
Смотреть в бинокль с коня – сущее наказание. Беспрестанно жующее траву животное не стоит на месте, ничего не даст увидеть, чтоб ему пусто было! Я медленно сполз с лошади, опять приложил бинокль к глазам, зорко прошелся по каменистым складкам.
«Так и есть, теперь другое дело. Вижу!».
Вон один козел застыл на вершине утеса как каменное изваяние, весь светится, купаясь в лучах восходящего солнца. Судя по тому, как важно поворачивает шею, - зрелый самец. Скорее всего, и он увидел двух конных у подножия. И понимает, что ждать опасности на таком изрядном расстоянии от нас не стоит. Ох, и хитер теке!
На склоне утеса какие-то бурые точки пришли в движение.
Ба-а-а, да это же козы!
Вижу четырех... пять, шесть. Ой-бай, все семь... десять, двенадцать, семнадцать. Да на этом склоне пасется целое стадо!
Мунарбек снял бинокль, воздрузил его на место и повернулся ко мне:
- Эту высоту называют «Ансаган кулаган»*. Много лет назад известный охотник из Аршаты выслеживал здесь зверя. Нечаянно специально надетые на обувь «кошки» его оскользнулись на льду, и он полетел вниз с высокой кручи. Не зная, куда охотник ушел, в какие горы, односельчане всю зиму провели в пустых поисках. Нашли его в этом месте лишь, когда снег растаял. Говорят, падая с отвесной скалы, он не долетел до низу, застрял по пути в расщелине. Когда аульчане нашли его, у бедолаги глаза были выклеваны воронами.
Мунарбек еще раз махнул камчой в место гибели Ансагана, пришпорил коня и двинулся дальше. Я тоже сел на лошадь и послушно последовал за ним.
Взмылив коней, мы спустились вниз, перешли через какой-то голосистый ручей и оказались на противоположной стороне. После этого, двигаясь вдоль склона, взобрались на гору. Прошли немного, ведя коней под уздцы, и уперлись в плотное нагромождение крупных камней – следы камнепада. Мунарбек предупредил, что дальше лошади не пройдут, придется подниматься пешком. Я окинул взглядом упиравшие в облака вершины скал, и голова моя закружилась, сердце дрогнуло.
Ансаган кулаган* - там, где упал Ансаган
- Неужто мы и вправду должны подняться на эту высоту? – спросил я, недовольно скривив губы и сморщив лицо.
- Поднимемся, ага, поднимемся! – сказал Мунарбек. – Если мы не поднимемся, горные козлы к нам не спустятся...
«Смотри-ка, как заговорил, и впрямь в тихом болоте черти водятся!».
Я невольно прыснул.
Мы привязали коней за поводья к сучьям деревьев, сняли удила, освободили подпруги, а сами, увязая в снегу, полезли вверх.
Снизу, от кромки леса послышалось уханье филина.
017.
На снегу виднелись огромные следы…
Мунарбек нагнулся и, осторожно ступая, осмотрел следы со всех сторон.
- Барс! – сказал он, поворачиваясь ко мне. Торчащая щетина его усов еще больше встопорщилась. – Большой барс… ушел в сторону вон тех снежных вершин. Он тоже, как и мы, охотится на горных козлов.
Неужели тот самый барс, который обитает только на этих неприступных вершинах? Очень редкий на нашей планете зверь, живущий на близкой к Богу высоте. Воплощение могучей силы и ловкости, свободы и независимости. Тот самый барс, которого наше молодое государство выбрало символом для себя!
Я тоже наклонился и стал поглаживать ладонями след зверя. Не то, что самого барса, я следы его видел впервые и внутренне желал, чтобы от них мне передалась хоть толика качеств царственного зверя.… Судя по следам, лапа его была велика, как лопата.
Мы продолжали подниматься.
До нас донесся рев марала. На этот вызов из нижнего леса ответил другой самец. Еще с какой-то стороны проблеял козленок, прокричала косуля. С лысой горы протявкал сурок. В голубом небе в боевой готовности парил беркут. Тоненький родничок, берущий начало в горах, словно успокоился возле нас и что-то бормотал. Если прислушаться, как будто рассказывал какую-то историю. Нет, не историю, а скорее интересную сказку рассказывал ручей. Я застыл, прислушиваясь к этой симфонии природы.
- Ага, не отставайте! – Мунарбек, успевший уйти на приличное расстояние, помахал мне рукой.
Я с усердием начал карабкаться вверх, но вскоре не выдержал и, глубоко вздыхая, растянулся на бурой траве.
Мне прежде не приходилось взбираться на такую высоту в алтайских горах, но с этюдником за плечами я избороздил немало гор и впадин Алатау. Поэтому мне известно, что подниматься в горы, - все равно, что идти по пустыне. Приходится сильно потеть, мучает жажда. И потом загар быстро пристает. Вот и с меня сейчас пот струился градом, как в бане. И загорел, наверное, но это будет видно завтра. Хорошо, если не сойдет слой кожи, и губы не распухнут…
В какой-то книге читал, что не стоит слишком доверять себе, когда находишься среди гор и скал. Но и бояться чрезмерно как будто тоже не следует. Первое будет наказано и погубит, второе – вовлечет в ошибки. Выиграет лишь тот, кто найдет золотую середину. Только такой человек чувствует себя свободно в экстремальной ситуации и добивается задуманного.
Таков был на сегодня мой опыт по поводу характера гор, извлеченный из жизни и книг.
Высота обманчива, вспотевшему нельзя затягивать отдых, – пот может застыть. И тогда все тело будет объято недомоганием, вызывающим боль при движении, колени разноются, с трудом будет даваться каждый шаг.
Я и с этим хорошо знаком. Поэтому, отдохнув немного, нехотя поднялся с места. Вяло передвигая ноги, я поплелся за Мунарбеком.
018.
- Этот перевал называют Жалкезен. Говорят, что в прошлом на этом перевале произошла печальная история...
Мунарбек поджал обветренные губы и горестно покачал головой. Вот что я понял из его обрывочного рассказа.
Жил-был в этих краях кержак Губушкин, старик с окладистой бородой, знаменитый охотник, стрела которого попадала без промаха в цель. Как-то охотился он здесь со своим единственным сыном. Поднявшись на гребень Жалкезена, сын Губушкина, видимо, заплутал, обошел отца и оказался впереди него. А тот этого не заметил. Смотрит, а перед ним под кустом желтеет спинка какого-то зверя. Решив, что лиса, бывалый охотник, не задумываясь, выстреливает. Оказалось, что это его собственный сын в сурковой шапке. Пуля пришлась прямо в затылок, где уж тут спастись.
- Да сохранит господь от такого! – рот Мунарбека скривился, усы зашевелились.
- Ну надо же, какое горе!
Этот рассказ и меня задел за живое.
Из под таволги выпорхнула пестрая горная куропатка и заставила вздрогнуть нас обоих. И без того кое-как тащивщийся, я споткнулся.
019.
Мы поднялись на залитый солнцем склон. Он оказался совершенно голым, ни снега, ни деревца. Гладкое пространство, поросшее короткой травой, местами перемежалось с завалами камней. На вершине склона маячили островерхие пики.
- Эту лощину называют Сарыбет, - сообщил Мунарбек. - Зимой здесь не держится снег, часто бывают оползни и обвалы. Горные козлы всю зиму проводят тут на тебеневке.
Спустя некоторое время я сильно устал и совсем обессилел. Ноги не слушались, колени дрожали, меня шатало и качало. Я все чаще садился передохнуть, перевести дыхание, но пользы от этого не было. Задыхаясь от нехватки воздуха, я разевал рот как рыба, выброшенная на сушу. Пот струился градом, рубашка вся взмокла, словно я вылез из воды.
Увидев, что я устал, Мунарбек взял мое ружье и перекинул его через плечо.
- Не сидите долго, – опять подначил меня Мунарбек, – долго будете сидеть, потом встать не сможете.
Об этом я и сам хорошо знал. Но что поделаешь, сил нет, мощь моя иссякла, весь запас энергии вышел. Уши заложило, в голове стоит звон, то и дело сглатываю. А тут еще из носа закапала кровь.
- Ненароком помру я здесь, а потом придется тебе тащить отсюда мой труп, – пытался я шутить.
Я шутил, а голос мой сипел и обрывался, как звук из старого патефона. Сам не слышал, что говорил. Затем губы мои разъехались, изображая улыбку. Чувствовал, что выгляжу неважно. Хотелось вытянуть ноги и посидеть подольше. И чего я, непутевый, согласился на эту злосчастную вылазку? «Если долго отдыхать, не сможем вернуться домой затемно. А ночью дорога тяжелая», - волновался Мунарбек. Я понимал его состояние. Поди, тоже жалеет, что связался со мной. А ему все нипочем, прыгает себе с камня на камень, не хуже того же козла. Я еще не замечал, чтобы он устал или хотя бы запыхался, бодренький, словно для него это путешествие – обычный отдых... Что значит, родился и вырос в горах, среди скал. Пока я приходил в себя, Мунарбек обследовал в бинокль утес.
Мы кое-как вскарабкались выше и очутились под самыми вершинами. В следующий миг Мунарбек уже двинулся вдоль склона.
- Эу, козлы остались наверху... и куда это мы премся вкривь-вкось?
- Если приблизимся, они учуют, обойдем сбоку, с подветренной стороны.
Идти вдоль склона для меня все же было легче, чем напрямую. Но косо ступавшие на жирную поясную тропу ноги то и дело оскальзывались. Усталость и сильная жажда не отпускали. Высота давала о себе знать, дыхание было спертое, затрудненное. Но что поделаешь, дело чести, решил вытерпеть до конца во что бы то ни стало.
Когда мы доползли под сень огромного камня, Мунарбек подал мне знак, прижав палец к губам. Это означало: «Пришли. Теперь ни звука, молчите». Я понял его и свалился плашмя у ног своего спутника.
020.
После того, как понемногу пришел в себя, я тоже окинул взором окрестности. Прямо напротив – сплошь необозримой высоты пики, крутые утесы. В низовьях одного из таких пиков я рассмотрел большое стадо животных. Они шевелились, медленно передвигаясь, и напоминали отару овец. Другая группа перевалила через хребет и беспорядочно потекла вниз. Напрягая глаза, я насчитал свыше шестидесяти голов. Один за другим они появлялись из-за вершины, и не было им конца. А сколько тех, что уходили, обогнув расщелину. Кто бы мог подумать, что горных козлов бывает так много!
Я повернулся к Мунарбеку. Он осматривал в бинокль каменную вершину нашего пика. Видимо, охотник не заметил это несметное стадо. Я ткнул его в бок, дескать, взгляни туда, вон, сколько там этих теке. На это Мунарбек даже бровью не повел, только качнул головой и продолжал стоять в прежней позе.
- Агай, это самки, - сказал он через некоторое время, наклоняясь ко мне, – а нам нужны самцы!
«И что там видит этот парень?» - подумал я и, поднявшись, вперил взгляд в ту сторону, куда был направлен его бинокль.
Вот это да!
Я восторгался обилием животных на соседней скале, а здесь этого добра видимо-невидимо! Несметная отара горных козлов паслась в нашей стороне. Это было видно и невооруженным глазом.
Мунарбек вздохнул и прошептал мне на ухо:
- Вон на вершине той скалы слева стоит один козел. Стреляйте в него.
- Лицензия ведь у нас есть? Все в порядке? – спросил я, несколько робея.
Мунарбек прыснул, лицо его ожило, зашевелилось. Он вскинул брови и кивнул. Затем подал мне ружье.
021.
В молодости я хорошо стрелял из ружья, слава богу, и в этот раз не оплошал.
Я понимал, что в такой охоте не бывает двух выстрелов. Дикое животное, готовое сорваться с места не только от выстрела, но и от звука упавшего камня, не даст выстрелить вторично. Поэтому я не спеша прицелился, затаил дыхание и одним выстрелом свалил гордо стоящего на гребне скалы козла. От грохота выстрела заложило уши, по горам и скалам прокатилось эхо. Не успели мы глазом моргнуть, как от скопища козлов на Сарыбете не осталась и следа, в одно мгновенье они исчезли за хребтом.
Я не мог ходить, поэтому Мунарбек сам поднялся вверх и принес убитого козла. Это был редкий экземпляр с развевающейся остистой белой бородой и огромными изогнутыми рогами.
- Вообще, неплохой вам трофей сегодня выпал, – посмеивался Мунарбек, – молодого козла семи лет свалили.
- Откуда ты узнал, что ему семь лет?
- Да вот, делений на рогах семь! – воскликнул джигит, показывая мне сочленения на внутренней стороне рогов.
- Спасибо! – поблагодарил я, выказывая радость.
Мунарбек в мгновение ока, помогая себе кулаком, содрал шкуру с козла. Движения его были быстрыми, глаз не поспевал. И мясо играючи разделал по суставам. Затем всё, кроме внутренностей, положил в мешок. Голову он завернул в блестящий целлофан и водрузил мне на спину так, что загнутые концы рогов торчали над плечами. Сам же поднял мешок со свежатиной и взял в руку ружье.
В таком виде мы начали спускаться вниз к подножью, к нашим лошадям.
022.
Было уже давно за полдень. Не знаю, как Мунарбек, но у меня внутри уже начали выть собаки. Не зря говорили, что в горах голод приходит скоро. Конечно, как же не проголодаться, если карабкаться, невзирая на усталость, на эти чертовы высоты?
Целые и невредимые, лошади стояли на месте, медведь их не тронул, волк не порвал.
Мунарбек сразу же вырыл в земле очаг, собрал хворост под кедрами и разжег огонь. Потом в чайнике принес воды из ручья неподалеку и подвесил чайник на треноге. Вскоре чайник вскипел, выпуская клубы пара.
У шустрого джигита к чаю нашлось и молоко, и сахар, и масло.
Раскинув скатерку, Мунарбек нарезал большими ломтями жирное соленое мясо и положил кучкой в середину. Мы накинулись на еду, словно голодали неделю, и выпили весь чай в чайнике. Оказывается, в горах и хлеб, и мясо бывают особенно вкусными.
Солнце склонилось к закату, и мы засобирались домой, как вдруг снизу послышался громоподобный вопль. Не вопль, а леденящий кровь рев демона. Разрывающий перепонки звук этот был такой ужасающий, что едва не лишил нас сознания.
Если говорить начистоту, душа моя ушла в пятки, небо словно раскололось, а земля под ногами задрожала. Лошади зафыркали, дергая поводья, и застригли ушами.
Крики повторились.
Мне почудилось, что в ущелье идет битва титанов из греческих мифов.
- Медведь!
Даже бывалый охотник Мунарбек вытаращил глаза и не на шутку растерялся. Он кинулся к ружью и, крадучись, направился к краю крутояра. Сердце готово было выскочить из груди, я тоже поспешил к нему.
Внизу, извиваясь, белела река Таутекели. Поблескивая на солнце, из соседней ложбины в нее вливался ручей. Спереди ложбина была открыта взору, а позади нее громоздились горы.
Вдоль этого ручья, на открытом ровном месте, похожем на коровий выпас, состязались два медведя. Оба стояли по-человечьи, на задних лапах, и поочередно оглашали местность ревом. Один из них был громадным, как бык, другой – поменьше, с годовалого телка.
Бинокль приблизил их так, что теперь они стояли прямо перед нами.
Молодой медведь был весь в крови. Он кричал чаще, поддерживая в себе мужество и пытаясь устрашить врага. Взрослый медведь тоже ревел, но движения его были спокойными, словно он знал превосходство своих сил. В следующий миг матерый в два прыжка достиг молодого и залепил ему пощечину. Тот покатился с пронзительным визгом и снова поднялся на лапы. Вместо того чтобы убежать, он начал вопить, колотя себя в грудь. Внезапно молодой вспорол себе брюхо острыми, точно заточенное железо, когтями.
Ужасное, омерзительное зрелище!
Взрослый медведь, видно, понял, что делу конец, повернулся и пошел прочь. Оставляя кровавый след и волоча внутренности, молодой сделал несколько шагов вокруг камня повыше и свалился.
- Помер! – сказал Мунарбек, переводя дыхание.
- Храни господь, что это с ними?
- Молодой медведь забрел на территорию матерого. Неопытный ведь. Он понял, что ему не одолеть взрослого, но ярость его была так велика, что сам себя порвал.
«Надо же, и такое бывает!»
Оторопев, я стоял, не веря тому, что произошло у меня на глазах.
Вот ведь, приехал на Алтай и стал свидетелем кровавой схватки двух медведей! Жуткая картина из жизни хищников, днем не выходящая из памяти, ночью преследующая во сне.
023.
Передвигаясь мелким ходом, с наступлением сумерек мы достигли кордона на Тайпаке. Во дворе нашего дома нас ждали следы погрома. То там, то здесь катались на боку ведра, блюда были перевернуты, зола в очаге разворочена. Накануне джигиты выскоблили шкуру зарезанного барана и растянули ее для просушки на распялке. Теперь она, скомканная и разодранная, валялась на земле.
- Ба-а, что тут произошло? Неужели без нас медведь похозяйничал?
- Нет, не медведь, росомаха. Этих лохматых вонючек иногда одолевает такая жадность.
- Это не жадность, а самый настоящий бандитизм!
Видно было, что в наше отсутствие никто из людей не приходил. Даже если наведывались, то, увидев замок на двери, уходили восвояси.
Я с трудом, с помощью Мунарбека, спешился. Товарищ мой расседлал лошадей, отвел их на лесную опушку и привязал там. Затем, гремя посудой, принялся за приготовление ужина.
От езды на коне ляжки мои натерлись, ноги в коленях не разгибались, и я передвигался на раскоряку. Едва стянув с себя верхнюю одежду, как подрубленный, рухнул на постель. Хотел только вздремнуть, но, оказывается, провалился в глубокий сон.
Когда Мунарбек разбудил меня, я долго не мог понять, где нахожусь. Потом кое-как поднялся.
Двор был окутан кромешной тьмой, лишь в очаге пылал огонь. Тут я понял, что с момента нашего возвращения прошло много времени.
024.
Ранним утром я проснулся бодрым. О вчерашнем тяжелом путешествии напоминала лишь ломота в коленях и боль в бедрах. Обычная маета и лень улетучились. Я вышел на веранду и принялся считать дни моего пребывания здесь.
Вечером первого дня я поселился в этом доме. Следующий день я провел в постели, объятый сном. Это раз. Во второй день я опять спал. Два. В третий день…
- Мунарбек, какое сегодня число, какой день?
Приятель мой, сидевший на пороге, ковыряясь в зубах, всем телом повернулся ко мне.
- По-моему, 27 сентября. А какой день недели не знаю.
- Почему не знаешь?
- У нас нет субботы, воскресенья, нам все одно – каждый день рабочий. Поэтому дням недели мы счета не ведем.
- Ой, да ты, я вижу, тот еще недотепа ...
Я понял, что толку от Мунарбека не будет и, загибая пальцы, снова начал считать.
Тот аршатинский аким на третий день ведь пожаловал? В таком случае мы вышли на охоту на четвертый, козла застрелили. Это – вчера. Получается, сегодня – пятый день. Все верно, все правильно. То есть, уже пятый день, как мы приехали сюда. Отныне мне придется самому вести счет дням, как Робинзону Крузо. С Мунарбека взятки гладки, с ним можно совсем запутаться.
«Вот это да, неужели я здесь уже пять дней?! Как быстро они пролетели!». Без мысли, без цели провожу я дни. Надо же, будто в родные края приехал я, чтобы спать. Хоть бы один этюд написал за эти пять дней, проведенных на лоне природы!
025.
Некое сожаление о впустую прожитых днях обуяло меня.
«Что это я спал почти три дня, точно дармоед какой? Нет, брат, придется взять себя в руки».
Я поделился с Мунарбеком своими мыслями, изрядно испортившими мне настроение. Но тот сморщил нос и выказал свое несогласие.
- Почему без смысла? – вопросил он громко. – Родные места – ваша мать. Вы приехали сюда, соскучившись по матери, и теперь нежитесь в ее объятиях. Воспринимайте эти дни как самые осмысленные и содержательные.
Ба-а, да ты только посмотри на этого парня, как заговорил!
Молчаливый Мунарбек неожиданно огорошил меня своими вескими доводами. Что бы там ни было, но его слова будто подняли мое унылое настроение, и я снова оказался на гребне жизни.
026.
Я попробовал мясо козла, приготовленного Мунарбеком, и выпил несколько чашек чаю. Так-то оно так, блюдо редкое, но вкуса особенного я не почувствовал.
Одевшись, взвалил на спину этюдник и направился к подножию.
- Если позволите, я сегодня съезжу в аул, - сказал Мунарбек, собираясь в дорогу.
- Конечно, поезжай. Даст бог, вечером свидимся. Если по каким-то причинам не сможешь приехать, ничего, обиды не будет.
Мунарбек положил в мешочек кусок мяса, ломоть хлеба, курт с иримшиком и повесил мне на плечо:
- Не получится вернуться к обеду, перекусите.
027.
Низовье Тайпака оказалось сизоватой степью, холмистой равниной. Конец ее вонзался в выступ горы. Кое-где сиротливо торчали сосны, короткие стебли тростника были вытоптаны скотом. Обычно в начале лета такую степь покрывали высокие травы, алые маки. И тогда все вокруг казалось объятым пламенем. В августе она снова менялась, наряжаясь в белое одеяние из ромашек. Таковы неуемные фантазии лета…
А сейчас от того праздника трав и цветов остались лишь желтеющие головки семенных коробочек.
Я шел, вызывая в памяти детские картинки видов родной природы.
Еще я вспомнил, что такую широкую долину в горном ущелье казахи называли «дара».
Выходит, эта «дара» – лучшее из раздольных осенних пастбищ наших дальних предков, кочевавших согласно временам года. Ближе к середине долины я повстречал старое кладбище. Это было строение из жженой глины, скрепленное хвостовым волосом белого коня. Я ведь художник, доподлинно изучивший историю архитектуры не только достославной Европы, но и родной казахской земли. Поэтому и об археологии я имел некоторое представление. Бесспорно то, что в последние два века казахи не возводили кладбищ в такой манере. К тому же в наши дни местное население не ведало ничего о таких образцах захоронений, если и знало, то давно забыло. Таким образом, перед моими глазами было строение, оставшееся со старых времен. Скорее всего, образец восемнадцатого века.
Фасад выделялся толщиной стен. В некоторых строениях виднелись очертания былых куполов, стены сохранились наполовину, но многие склепы были разрушены полностью.
Масляными красками я написал этюд, запечатлев природу этой местности со старым кладбищем на переднем плане. Давненько я не писал этюдов, и теперь в груди моей затеплилось вдохновение.
С интересом оглядывая окружающие красоты, я не заметил, как оказался на краю равнины.
В воздухе присутствовал прошибающий ноздри душистый аромат. Не живица ли так пахла? Нет, вряд ли. Она должна исходить от хвойных деревьев, что растут повыше, в срединной полосе гор. Или это запах меда? Но и на него не похож. Наверняка этот густой аромат – дух алтайской осени.
В глубине гор пыхтела и ревела, исходя яростью, еще одна речка. Глас ее был подобен грохоту, норов – задиристый, пыл – неимоверный.
Это была та самая речка Курти, о которой рассказывал Ералы. Исток ее терялся в глубоком ущелье, поросшем непроходимым темным лесом. Лишь на самой высоте белели заснеженные верхушки пиков. Если охватить эту панораму вместе с ревущей речкой, ущельем и белыми горами – получилась бы впечатляющая композиция.
Этот вид пробудил во мне вдохновение, воодушевил… Я быстро установил этюдник в удобное положение и, не спеша, смакуя, написал еще один этюд.
Он получился согласно замыслу весьма приличным. Этюд очень понравился мне, соединился с моим душевным настроем…
Посредством игры света и тени я сумел передать сумрачное состояние природы в объятиях осени, ритмичное сочетание цвета и формы. Светло-серая равнина, смягчаясь, плавно переходила в пепельно-зеленый окрас елей и кедров. С точки зрения композиции, природное пространство было удачно изображено через перспективу.
Самое главное, взгляд обобщал буйство красок на этюде и сводил его к одному колориту, где преобладал бурый цвет, безупречно передающий умиротворение и тишину осени.
Видит бог, до сих пор мне не удавалось так точно написать унылое состояние природы, отразить ее сложную палитру. Я надеялся, что этот этюд станет достойным материалом для хорошей картины.
Начав собирать этюдник, я услышал незнакомый звук, похожий на хрюканье. Оглядевшись, неподалеку я увидел барсука. Принюхиваясь острым носом и неуклюже топая, он убегал прочь.
028.
Взвалив на спину рисовальные принадлежности, мы в свое время вдоль и поперек исходили окрестности Алатау…
Особенно хорош благословенный Алатау осенней порой, - играет тысячами красок. Не сравнится с этим разноцветьем пестрый наряд цыганки с юбками в семь слоев. Иногда даже покажется, что оттенков палитры не хватит! Хотя достаточно красок всяких видов: и беспримесно ярких, и сложного сочетания, и тусклых, и теневых. Завороженный глаз щекочет чувства, вовлекает в маету, в мучительные поиски, но никогда не утомляет.
Однако алтайская осень мне показалась иной. Слишком гордой, знающей себе цену. В лике ее присутствовала влажная прохлада, преобладали спокойствие и торжественность. Здесь даже один желтый цвет играл и переливался различными оттенками. Вместе с алтайскими березами и тальником подергивались желтизной колючие кроны сбросивших шишки красноствольных лиственниц.
Сосны, пихты и кедры на всю зиму сохраняли свое вечнозеленое одеяние, лишь слегка бурели.
И если посмотреть, то дымчато-серая степь под вашими ногами находила продолжение в желтеющем покосе поодаль и далее – в янтарном лесу. Еще выше шли зеленые кедры, переходившие в тундровый мшистый пояс гор, а тот, в свою очередь, – в сверкавшие подобно серебру снежные пики. И все это великолепие сливалось в единой гармонии с лазоревым небом…
Нечего сказать, днем с огнем не сыщешь такой прекрасной картины. Говоря проще, самая настоящая золотая осень. На память пришла картина «Золотая осень»… не Левитана, а Поленова.
«Почему я в детстве не замечал, что моя родная земля так красива?»
Теперь вот... спустя многие годы я получил неповторимое впечатление от красоты алтайской осени.
029.
Возле дома стояла на привязи лошадь. С этой стороны на пне сидел, поджав ноги, некто толстый, как полено.
Я заметил издалека, что он кого-то высматривает, то и дело прикладывая руку козырьком. Кто бы там это ни был, но, видимо, он с нетерпением ждал меня. Что это за гонец? Или человек от Ералы?
Поблизости никого больше не было. Судя по этому, Мунарбек еще не вернулся из аула. «Жена, поди, не отпускает…»
Когда я приблизился, гость увидел меня, поднялся и вперевалку пошел мне навстречу. Переваливаясь по-гусиному, он подошел ко мне, приветливо протянул руки.
- Я слышал, что вы приехали, позавчера тоже был здесь, - проговорил он.
- А-а, так вы аульный аким…
- Да, это так…. Зовут меня Каныбек. Каныбек Угыбаев!
В честь знакомства мы опять обменялись рукопожатиями.
- Недолго пришлось ждать?
- Ничего, раз специально приехал…
- Ну, Канеке, по какому делу?
- Это самое… раз в наши края пожаловали, так в эту субботу будьте нашим гостем.
- Вы говорите «наши края», так это и мои края. Это моя родная земля, здесь мне отрезали пуповину, омывали.
В знак согласия Каныбек закивал и пригладил толстыми пальцами волосы на висках.
- Днем мы все с хозяйством, поэтому ждем вас к вечеру, - выразил он свое пожелание.
По мне же, что день, что вечер, - все одно. «Что ж, хорошо, Канеке», - дал я свое согласие на приглашение.
Однако, суббота – это какой же день? А сегодня у нас что?
От Каныбека я узнал, что сегодня – двадцать восьмое сентября, четверг.
Получается, что со дня моего приезда прошло шесть дней? А я-то считал, что пять. Что же это значит? Выходит, мы с Мунарбеком ошибались? Где я потерял один день своей жизни?
Я опустил глаза и невольно ухмыльнулся. Канеке этого не заметил.
Договорились на том, что в субботу вечером сам аким увезет меня на своей машине в аул.
030.
За вечерним дастарханом я начал пытать Мунарбека о потерянном дне.
Тот веретеном завертел шеей и заморгал:
- Да вы же спали без задних ног, вот тогда, наверное, и потеряли? – сказал он тоном, каким обычно выражают сочувствие больному.
В любом случае, его мало заботило то, что я ни с того, ни с сего лишился одного дня. Ответил и тут же забыл обо всем. Резал себе мясо, готовил чай, словом, был занят ужином. Вообще, скуп на слова, будто язык проглотил. Да и то сказать, охотник ведь, днями напролет лазает по горам, выслеживая добычу, какие там могут быть разговоры? Он так приучен, только, если спросишь что-нибудь, ответит прямо, в лоб, растопырит усы и опять уставится на тебя. Я заметил, в редких словах этого молчаливого парня была соль.
Мунарбек и сегодня собрался домой. Он накидал в печь дров, навалил возле печи другую охапку, сел на коня и был таков. Я остался один в диком ущелье среди гор.
В прошлые дни я проспал, ни о чем не заботясь, а сегодня несколько встревожился, точно ощутил отсутствие Мунарбека, свое одиночество.
Я вышел на веранду. Оставленный мне конь беспечно пасся у кромки леса. Перед уходом Мунарбек стреножил его. Время от времени конь обмахивал себя хвостом и всхрапывал. Хрустел себе пожелтевшей травой и дела ему ни до чего не было. Хоть и лошадь, а всё равно для человека общество.
«Как же это друг мой Ералы не догадался оставить мне какую-нибудь собаку, чтобы охраняла в такие дни, когда я оставался один?»
Вот чудеса, привыкший к какофонии городской жизни, я почему-то страшился этой первозданной тишины.
Я снова вошел в дом, взял ружье, осмотрел его со всех сторон, проверил, заряжено ли. Позавчера из этого ружья я застрелил горного козла, и впервые после этого держал его в руках…. Мунарбек тоже ушлый малый, ствол успел начистить до блеска. Считая, я загрузил в магазин ровно шесть патронов. Затем прислонил ружье к изголовью кровати, закрыл дверь на крючок и в одежде лег в постель.
Хорошо, что я лег в одежде, бессонница заставила меня четырежды за ночь выходить во двор. Каждый раз, выходя наружу, я надевал куртку и вешал на плечо ружье. Оказывается, вооруженный человек бывает храбрым: я долго прогуливался по округе. Дважды мне пришлось заворачивать коня, ушедшего вниз, позвякивая треногой.
Сегодняшняя ночь показалась особенно прохладной, в нос ударяла зимняя сырость, запах снега. От беспрестанного забрасывания в печь дров в комнате стояла жара.
Лишь под утро я сомкнул глаза.
031.
Только я заснул, как Мунарбек разбудил меня, толкая в бок. Непонятно, когда он вернулся из аула, ходил по дому, прибирался.
Из большой чаши, что стояла на столе, я налил себе полную пиалу ячменного напитка, выпил и, перекинув через плечо этюдник, вышел наружу.
В одиночестве шагал я по обширной равнине.
Обошел вчерашнее старое кладбище в срединной части Матайской равнины.
Сегодняшний вид старого кладбища показался пугающим. Когда я проходил мимо, с одного строения с грохотом свалился купол. От пыли я закашлялся, защищая руками лицо. Открыл глаза… посмотрите на это чудо! Вся равнина кишмя кишит людьми, несметным скотом. Белеют юрты, чернеют котлы с мясом, шумит разноголосая ребятня. Немного в стороне – веселый аул, богатый кумысом, скачущие жеребята, резвящиеся верблюжата. Мирная жизнь, дружный быт. Сказочная безмятежная картина, когда на спинах овец жаворонки откладывают яйца. Счастливый народ, чье мужество благородно, достоинство ликующе, а угощение для гостей изобильно.
Грудь мою опалила тоска, сердце стиснуло, на глаза навернулись слезы.
«Вот оно что, - изумился я, - в моих грезах я увидел аул Матай-Бия! Видно и впрямь он был так прекрасен и величествен».
Но оказалось, это был сон, я лежал весь в поту и тяжело дышал.
Удивительный сон, похожий на явь. Надо же было Мунарбеку растолкать меня…. До сих пор перед глазами стояла картина полного торжеством жизни аула Матай-Бия. Я даже ощущал впившийся в плечо ремень моей ноши.
Жалея об исчезновении чудесного сна, я ворочался в постели. Крепко зажмуривал глаза, пытаясь вернуть его, но куда там…. Все испарилось безвозвратно. Разве такие красивые сны повторяются?
Ах, благостное время! А ведь когда-то здесь кипела волшебная жизнь, которая привиделась мне во сне!
«Аул Матай-Бия... Да ведь это мои предки!»
032.
Когда я поднялся с постели, солнце уже было высоко. Огонь в печи едва теплился, я подбросил дров. Они весело загудели, объятые языками пламени.
Я пошел к роднику. Раскидывая руки влево-вправо, сделал несколько упражнений. Потом умылся ключевой водой и вернулся домой взбодренным.
День обещал быть теплым. Насколько я помню, сейчас на Алтае самое лучшее время осени, безмятежные теплые дни. Воздух прозрачен, как стекло, сколько б ни вдыхал этот чистый утренний воздух - не утолишь жажды.
Мунарбек не показывался, возможно, никак не мог покончить с аульными делами. Бог даст, не заставит ждать, вернется. Я похлебал немного горячего чаю с печи. Есть не хотелось. Одевшись, вышел наружу.
На пне у изголовья очага сидел наизготовку коршун. Только дверь отворилась, он грузно поднялся с места и, лениво взмахивая крыльями, полетел. Будь в руке палка, можно было догнать и сбить его.
Ну, чем же мне заняться сегодня? Опять пройтись по окрестностям, пописать этюды? Или в ожидании Мунарбека поваляться, задрав ноги?
Вот те раз, не успел приехать, а уже начал скучать. Это и есть городской синдром. Для творческого человека - нехорошее предзнаменование.
С массивного выступа на том берегу реки послышался призывный рев марала. Следом неподалеку от него ему трубно ответил другой самец. Сердце мое забилось в каком-то добром предчувствии. Надо же, у меня есть возможность увидеть состязание маралов! Эта мысль вмиг собрала меня в дорогу.
Торчащий выступ на той стороне, поднимаясь хребтом, переходил в лысую вершину горы. По бокам хребет обросли сосны и кедры, но срединная его часть была без деревьев и казалась голой. Если передвигаться неторопливым шагом вдоль хребта, можно сходить к ледяным языкам вон тех снежных вершин. Даже снизу мне было видно, какая это отрада для глаз. Меня посетила надежда, что те взывающие друг к другу маралы уже начали битву на той стороне хребта.
Повесив наискосок ружье, я положил в карман несколько патронов и начал подъем в горы.
Пасшаяся на задах дома лошадь всхрапнула и проводила меня взглядом, будто хотела сказать: «Куда это ты?»
033.
Снизу хребет виделся покрытым мелкой рыжеватой травой. Но будь неладна, трава та оказалась зарослями кустарника, таволги и зверобоя. Высотой до пупка, заросли те не давали шагнуть, заставляя кружить в поисках дороги. Если не найдется открытая дорога, придется перешагивая, падая и спотыкаясь, идти сквозь густой кустарник.
Мой сегодняшний поход в горы для меня был нелегким, пот лил с меня ручьем. Я полагал за пару часов забраться на громоздкий выступ и оттуда лицезреть сражающихся маралов. Какой там, спустя два часа я достиг лишь середины горы. Никаких признаков тех зазывно трубивших маралов. Возможно, они безмолвно встретились и без меня начали свой поединок. Все вокруг было погружено в оглушающую тишину.
Одна мысль, похлопывая меня по спине, советовала: «зачем тебе так мучить себя, возвращайся». Другая упрямилась, не соглашаясь: «что тебе делать дома, опять будешь лежать и тухнуть? Что бы там ни было, поднимись в горы, посмотри драку маралов». Раздираемый этой склокой собственных мыслей я провел в пути еще два часа. Всего один бросок, и я окажусь наверху.… Но броска не получилось, зацепившись ногой за куст, я растянулся во весь рост, точно кто-то огрел меня по затылку. Обнял высушенную до звона траву. Душистый запах травы распирал мне ноздри. Уткнувшись в нее, я лежал некоторое время без движения. Блаженство! В голове ни одной мысли, ни тени тревоги, все тело словно растворилось в приятной истоме.
Не знаю, сколько я лежал так, обняв землю, но когда поднялся, почувствовал себя отдохнувшим. Я ощутил себя верхом на необъезженном коне. Энергия и силы били из меня ключом…. Я готов был бегом одолеть оставшиеся сто метров. Более того, мне казалось, я мог сходить и к тем снежным пикам. Но, подчинившись этому чувству можно проиграть. Горная высота обманчива, возможно, кислородное голодание, ни в коем случае не стоит спешить. Это я знал хорошо.
034.
Между тем местом, куда я дополз, и снежными пиками разверзлась еще одна глубокая ложбина.
Издалека казалось, что всё сплошь примыкающие друг к другу отроги, но глаза обманулись. На той стороне горы взору открылась обширная низменность с прохладным альпийским лугом. Ни оленей, ни маралов поблизости не было видно.
Подошва низменности – дернистая, покрыта зеленой луговой травой. С одного краю изогнутым коромыслом тянулось озеро. Появление прямо передо мной ярко-голубого озера очень обрадовало меня. Ближний ко мне берег извилистого озера порос пожелтевшей травой, высоким кураем, кое-где, шелковисто распушившись, торчали вейник и пырей. Дальше они росли густо и дружно. Несмотря на то, что окрестности озера были болотистыми, на противоположной стороне стояла густая стена деревьев. Сюда можно было прийти хотя бы для того, чтобы насладиться красотой этого озера. Вид этот был настоящей находкой для художника, прямо-таки созданной для этюда. Но у меня не было ни красок, ни карандашей, ни бумаги, лишь перекинутое через плечо ружье. В такие минуты доверяешь не себе, а глазам. Пришлось запечатлевать в памяти увиденный образ во всех красках. Потом, дома, надо будет вспомнить всё, возродить полученное впечатление, искать его в палитре. И на серый холст выльются все собранные по крупицам воспоминания…
Я спустился в низменность, и некоторое время шел по берегу озера. Девственный лес, где вперемежку росли сосны и кедры, березы и тополя. Теперь я заметил, что очаровавшее меня озеро и не озеро вовсе, а всего лишь пруд. Это была прочная запруда, сделанная из поваленных и скрепленных глиной деревьев… Самодельная!
Кто же это сделал? Кто мог прийти сюда, в эту глухомань на высоте? А может быть, поблизости есть какое-то хозяйство?
Блеснувшая искорка надежды заставила меня оглядываться по сторонам. Никаких признаков деятельности вокруг не наблюдалось. Сумрачный лес, угрюмая природа. Только откуда-то слух улавливал нежный лепет. Это, вероятно, голос птицы, горной куропатки или пересмешника...
Когда я стоял так, переполненный ощущениями, вдруг раздался шлепающий звук, и на поверхности озера кругами пошли волны. Затем я увидел блестящую спинку какого-то зверька. Он поплыл в сторону запруды и скрылся в норе. Это был бобер…
И запруда, и сверкающее озеро оказались «хозяйством» этого «богатыря».
035.
Я думал, что вытекавший из озера ручей – говорливая река, оказалось, это всего лишь небольшой ручей. Как же тут не восхититься трудом бобра, сумевшего из этого маленького ручья создать большое озеро!
Перепрыгивая с камня на камень, чтобы не замочить ног, я переправился на другую сторону ручья. Пониже озерный ручей ударялся в яр и закручивался водоворотом. На берегу щебетала стайка зябликов. В той стороне я заметил еще одного зверя, лихо плавающего, покачивая спинкой. Некто, охотящийся за рыбой… Движения его быстрые, глазом не ухватить. Между тем, держа в зубах поперек белого чебачка, зверь вытянул шею из воды. Но, видно, заметил меня, стоявшего на некотором расстоянии от него, шлепнулся в воду и исчез в глубине.
Что это за зверь? Ясно, что не бобер. Ондатра или нутрия? Мех у нутрии длинный, у ондатры должно быть туловище короче. Тогда выходит, что это норка. Похоже на нее. Я слышал, что норку завезли ради шкурки и выпустили в реки Алтая. Это было грубой ошибкой. В последние годы норка так расплодилась, что пожирала всю рыбу в реках.
Пройдя через ручей, я обошел по краю голую возвышенность и поднялся на круглый холм в той стороне. Открытый холм овевался щедрым ветром. Маралов, которыми я грезил, и здесь не было.
И запруда бобра, и озеро, и сосново-кедровый лес, - теперь остались там, внизу.
С того места, где я стоял, всё было видно, как на ладони. До самого горизонта – холмистый хребет, темно-бурая вытоптанная скотом трава, доверчиво примыкающие друг к другу горные отроги. У подножия – большая горная теснина, по нему, серебристо сверкая, текла Бухтарма. Следующий конец великой реки, несущей свои воды по извилистому руслу, сужаясь и сходя на нет, исчезал в горной чащобе. В ложбинах и лощинах поблескивали большие и малые речки, питавшиеся Бухтармой, как телята, сосущие одну матку.
Та сторона горной теснины, где я стоял, заросла густым лесом, а противоположная сторона переходила в широкую равнину с сенокосными угодьями. Радующая глаз круговая панорама, захватывающее дух обширное пространство, неописуемая бездна. Необъятный край, богатый лесом-тайгой, волновался как голубой океан, выплескиваясь за пределы. Хан-Алтай, давший приют не только широте и изобилию, но и торжественному величию! Святочтимый Алтай! Священный Алтай! Древняя родина тюрков, обетованная земля казахов. Сердце таяло от нахлынувших чувств, горло перехватывало от всхлипов.
Ах, если б красками изобразить на полотне этот великолепный вид, похожий на райские пастбища, жаждал я, зная о невозможности этого. Будь ты наделен талантами десятикратно и одарен стократно, - все равно тебе не написать такого полотна. Ибо на твоей картине и эти горы со скалами, и эти обрывы и ущелья превратятся в хаос, обмельчают и потеряют очарование. Такое дано лишь видеть глазами и чувствовать сердцем. Бывают иногда явления, над которыми не властна даже сила искусства. И этот прекрасный вид был одним из них.
Я знаю, что Павел Корин писал панораму родного Палеха, видел и оригинал картины, висящий в Третьяковке. Корин был одним из выдающихся и известных художников советской эпохи. Наверняка и он так же, как и я сейчас, был очарован видами родного края. Разумеется, художник желал прославить своей сыновней любовью просторы русской земли, изобразить их так, чтобы каждый увидевший испытал восхищение. Как художник и как простой смертный, преклоняющийся перед красотой природы, я хорошо понимаю это намерение Корина. Во власти такой цели он написал картину длиной в несколько метров. И что он выиграл от этого? Я думаю, немного. Безусловно, это одно из самых прекрасных творений Корина, однако зритель не может получить первозданного впечатления от него. Воистину, такое дано лишь увидеть глазами и пронести через сердце.
Я вдохнул полной грудью и закричал во весь голос:
- О, родная земля, священная обитель! Как люб и дорог мне твой лик, похожий на земной рай!
Потом опомнился и начал оглядываться по сторонам. Слава богу, поблизости не было ни одной живой души.
036.
Я все еще находился в постели, лежал с открытыми глазами. Подтянулся, держась за спинку кровати, сделал несколько упражнений ногами, перекрещивая их и взмахивая вправо-влево.
В комнате ощущалась какая-то перемена. Да не только в комнате, во всем мире! Что это значит? Внутрь закралась легкая тревога.
Я вскочил, отодвинул оконные занавески.
Что это за явление?
Я протер глаза ладонью и опять уставился в окно.
Вот чудеса! Вокруг всё изменилось до неузнаваемости... Все мироздание было чистым и невинным, как новорожденное дитя. Белый снег продолжал падать. Будто не снег это был, а белоснежная вата плавно опускалась с небес. Укрытый пушистым одеялом, мир лежал в приятной истоме.
Прекрасная картина, похожая на сказку.
Деревья еще не успели сбросить свою листву, а снег все шел и шел. Выходит, нынешняя зима решила пораньше вступить в свои права. В таком случае, многие деревья падут под тяжестью снега.
Я наскоро оделся, расположил этюдник на веранде и принялся писать этюд.
Ах, если б у меня хватило мастерства и таланта, чтобы передать удивительное состояние этого вида! Во все времена медленно падающий снег задевал самые сокровенные струны человеческой натуры, умиротворял душу. И этот вид передо мной был точно таким же, не чистейшая поэзия ли это? Неповторимая картина!
Вдохновение захлестнуло меня, и я быстро написал этюд. Из моей торопливой мазни кажется получилось нечто приличное.... Смешанные краски превратили мою палитру в кашу. Я так густо наносил краски, что поверхность холста стала похожа на шероховатый барельеф. Мне оставалось только, подобно Жанатаю Шарденову, выдавливать краску прямо из тюбика на картон. Благодаря этим вольным и смелым мазкам мне вроде бы удалось схватить сиюминутное состояние природы.
037.
Вообще писать зимный пейзаж очень нелегко. Работать с белым цветом для художника всегда являлось сложным занятием и потому - интересным. Дело в том, что в природе белый цвет играет бесчисленным множеством оттенков. Видеть это, и не только видеть, но и уметь распознавать грань их незначительных отличий, наносить краски в гармоничном сочетании друг с другом, - все это требует от художника большого мастерства. И только искусному живописцу дано ухватить неуловимое обычным глазом нежное лирическое впечатление.
Сегодня меня посетила мысль, что я, возможно, и есть настоящий талант.
Этюд мне самому понравился. Я осмотрел его со всех ракурсов: склонив голову в одну сторону, в другую; прищурившись, издалека; вытаращившись, с ближнего расстояния. В общем, кажется, хорошо, написано на одном дыхании. Удовлетворение работой наполнило меня оптимистическим настроем.
После обследования с пристрастием я поднес этюд к окну и прислонил его там.
Пусть просохнет, пройдет время и, возможно, проявятся какие-либо недостатки. Тогда и внесем поправки.
Однако... на моей памяти не было такого этюда, который пришлось бы править.
Разумеется, при переносе этюда на картину можно внести коррективы в композицию, упорядочить компоновку, убрать лишнее, пополнить недостающее. Но все равно должно быть сохранено первое впечатление, схваченные в тот самый момент форма и цвет, если брать в целом, - колорит.
На самом деле, этюд – это всего лишь материал для будущей картины, набросок. Этюд же на лоне природы, «пленер», выражаясь языком живописца, ставит целью написание пейзажа с натуры, создание правдивой картины жизни, поиски красок природы в ней самой...
Созвучие света и цвета. Игра солнечных лучей на земле несметными оттенками. Этюд – это эмоция художника, порыв чувств, нахлынувших на него именно в данный день и в данный краткий миг. Подобное волнение чувств на следующий день не повторяется в том же виде, такое невозможно. Поэтому позже ты можешь испортить написанную вещь, добавив в нее что-нибудь надуманное, навеянное фантазией. Этюд должен быть прозрачнейшей поэзией, сродни единственной лирической строфе, рожденной из нечаянного вдохновения поэта.
Мне нет дела до других художников, это мой собственный опыт.
Ранний снег все еще продолжал валить.
Пушистые хлопья его, не достигая земли, кружились и плавно парили в воздухе. Весь мир очистился, словно побывал в бане: белый-белый, без единой помарки. Я почувствовал, как именно этот кипенно-белый снег очистил мою душу от грязных наносов городской жизни. Настоянное, как утренний воздух, прозрачное, как горный родник, душевное и телесное мое состояние было сонастроено с этим белым миром...
Самое главное – сегодня суббота.
Если Аллаху будет угодно, вечером я поеду в гости в дальний аул Аршаты. Для такого скучающего казаха вроде меня и это – развлечение. Сколько же лет не гостевал я в аулах? Про девушку, что вышла замуж и загордилась в зажиточной жизни, в народе говорят, что она своей родни не узнает. Это почти про меня. Даже думать об этом стыдно, не то что говорить. Но вместе с горячим стыдом в глубине души как будто проснулась ностальгия.
Что же ждет меня вечером, какая новость, какой сюрприз?
Сердце, будь оно неладно, учащенно забилось, точно предчувствовало нечто хорошее.
038.
Снежинки кружились весь день, и только к вечеру снегопад прекратился. После этого установилось особенное затишье, глухое безмолвие. Все вокруг было иным, чем вчера. Деревья, не успевшие сбросить листву, стояли, понуро свесив ветви, и подрагивали под тяжестью нежданного снега.
После обеда Мунарбек сварил и притащил пылающие паром остатки вчерашней козлятины.
Стоя на веранде, я написал еще один этюд. Снегу навалило по самые икры, куда уж тут ходить по нему... Почитывая привезенные из дому книжки, я весь день провалялся дома.
Аульный аким Каныбек прибыл в назначенный час. Мы сели в машину и, напустив на себя важность, отправились в гости.
Мунарбек остался дома, чтобы всю ночь поддерживать огонь в печи, ибо ночью мог ударить мороз.
039.
Вот чудеса – в Аршаты снег не выпал, отсюда можно было заключить, что Тайпак находился значительно выше.
Аршаты состоял из одной единственной, длинной, как кишка, улицы. Невозможно было понять, где ее начало, где конец. И была она кривая-косая, по краям заваленная грязью. Видимо, из-за того, что улица повторяла русло Бухтармы, в четырех-пяти местах она образовывала затейливый виток.
Когда мы ехали по этой извилистой улице, мне в нос ударил запах вкусного хлеба. По словам Каныбека, в ауле не было пекарни, и людям приходилось печь хлеб самим. Именно в этом ремесле стремились проявить себя аульные молодухи. И это не борьба за первенство, а просто состязание в мастерстве. Каждая из них хотела показать, на что она способна. Это служило источником для разных рассказов: «Ах, какой вкусный хлеб печет такая-то!». А для аульной женщины нет лучше похвалы, нет выше пъедестала. Говорили, что хлеб, испеченный некоторыми мастерицами, обрастал легендой, разносившейся по всей округе, вплоть до нижних Ореля и Береля. Длиннорукие акимы за таким хлебом специально снаряжали в Аршаты своих курьеров.
Доехав примерно до середины улицы, машина свернула в сторону гор.
Кирпичный дом акима, похожий на белый дворец, располагался в горной лощине среди кедрача, с подветренной стороны. Вокруг дома был возведен высокий дувал.
Когда мы выходили из машины, в нос ударил запах свежего мяса.
040.
Неторопливо раздеваясь в прихожей вместе с хозяином и стирая грязь с обуви, я услышал говор, доносившийся из комнаты в глубине дома. Видимо, там уже собрались гости.
- Да, это аульный актив, - поспешно пояснил Каныбек, - выражаясь городским языком, интеллигенция, сливки общества нашего Аршаты.
Что ж, меня в этом ауле никто не знал, я тоже ни с кем не был незнаком. Поэтому мне все равно.
Гостиная акима была более, чем просторной. Возможно, поэтому, гости буквально расмазались по ней. После обмена подобающими случаю приветствиями Каныбек представил меня приглашенным. Затем познакомил поочередно с каждым из них.
Массивный мужчина с горбатым носом оказался директором местной школы. В нем было что-то бычье. Плешь на голове директор прикрыл прядью волос с виска. Рядом с ним квашней расползлась его дородная жена. В этом же ряду сидела заместитель директора, то есть, завуч. Это была полноватая женщина не первой молодости, сохранившая притягательность во взоре. Она была без пары, к тому же я ощутил некое тепло, исходившее от нее, словно знал эту женщину прежде. Следующим шел владелец аульного магазина, другими словами, местный предприниматель. Щеголяя внешним лоском, он расположился со своей тонкой изящной женушкой подле окна.
На почетном месте, на узорчатом ковре «сырмак», по-турецки скрестив ноги и выставив на обозрение рыхлый живот, сидел заместитель аульного акима. Рядом примостилась жена – смуглянка с плоским калмыцким лицом. Еще была здесь молодая белоликая женщина с румянцем на щеках. Суетливого бледного джигита с ежиком на голове представили как сотрудника акимата.
Несмотря на компактность компании, заблаговременно был избран тамада – заведующий клубом, молодой мужчина по имени Самаркан. Когда, одетый по последним веяниям моды, он принял исходное положение и заговорил, то стало понятно, что этот человек – ас в своем деле и по праву занимает порученный пост.
Собравшиеся, признательно кивая мне, дружно говорили о том, что заочно знакомы со мной.
«Все это, конечно, для поддержания настроения, иначе откуда этим людям из глухого аула знать простого алматинского художника...».
- Да наверное, хозяин дома Канеке заранее представил меня вам, - пробормотал я, точно оправдываясь.
- Что вы, из этой глубинки вышло немного знаменитостей, они все наперечет. Среди них есть и вы. Мы в школе постоянно рассказываем о вас, - сказала молодая женщина с румянцем.
По построению речи было ясно, что она учительница.
- Мы с вами знакомы! – произнесла завуч, приподнимая брови и поводя глазами.
Я пристально посмотрел на нее.
Как же ее звали? Вроде Салима, говорила... Салима Ибрашева... Та, что из Зайсана, из аула Дайыр... О, господи! Неужели это она? Да, конечно, это та самая Салима!
Сколько же лет прошло с тех пор? Не то что годы, жизнь целая прошла. Кто бы мог подумать, что я встречусь с этой девушкой в такой глухомани, в медвежьем краю?
Ай да Салима!
Как время жестоко. От прежней тонюсенькой Салимы не осталось и следа... Располнела, загорела на солнце, поизносилась. Четверть века, истекшие с той поры, оставили ощутимый след на ней. Ну почему женщины так скоро старятся?! Наверное, по этой причине принято девушек сравнивать с цветами...
Салима определенно узнала меня, то и дело украдкой бросала взгляд и тепло улыбалась.
Эх, Салима Салима!
Не было им цены, тем годам, полным юношеских забав, ни золотом их не взвесить, ни веками измерить!
Перед моими глазами одна за другой, как кадры киноленты, мчались картинки прошлого.
041.
Салима была тонкой грациозной студенткой второго курса Устькаменогорского пединститута, следовательно, на год старше меня. В ту осень они были направлены в наш аул на помощь в полевых работах. Салима, Сабира, Кабира…, я уже не помнил их имен, было еще две девушки, всего пятеро.
Стояла середина сентября. Мы были заняты в совхозе на простой работе. Дни напролет собирали сено, пололи, силосовали, делали зяблевую вспашку. С наступлением сумерек собирались в клубе, смотрели кино, после этого устраивали различные игры и развлечения, танцы. Кино нас мало интересовало. В клуб мы ходили для того, чтобы, взяв девушек за руки и обняв за талию, покружить в танце. Это доставляло нам море радости, ввергало в пучину счастья.
Новенькие девушки показались для аульных парней спустившимся с небес сиянием, нечаянно упавшей в руки удачей. Мы же были еще мальчишками, со средней школой за плечами, с неясным будущим, туманной судьбой. Пределом наших мечтаний являлся техникум, институт казался чем-то недосягаемым. У многих не было средств для поездки на учебу.
При виде залетных птичек пришлось отодвинуть аульных девушек на второй план. Нас было немного, семь-восемь джигитов, ринувшихся завоевывать сердца студенток.
Каждый вечер в клубе после кино – танцы, после танцев в просторном доме рядом с общежитием девушек устраивался импровизированный день рождения одного из нас. Участившиеся «дни рождения» разбавлялись другими мероприятиями. Среди нас были и взрослые ребята, по которым давно плакал супружеский хомут. Двое из них, шоферы, мигом могли завезти необходимые продукты из соседнего аула. Стол наш ломился от разных яств, водки и вина.
В общем, одна из пятерых, невысокая светленькая девушка досталась мне. Звали ее Салима. Оттого ли, что прежде мне не доводилось встречаться с девушкой, я втрескался в Салиму по уши.
Любовный недуг пленил меня по-настоящему, жег и испепелял, не давая ни днем, ни ночью забыть образ моей девушки.
Это была моя первая любовь.
042.
В полночь, погрузившись в кузов машины, мы отправлялись на природу. Лунными ночами прогуливались по березняку. Задушевно пели песни, с выражением читали стихи, наперебой рассказывали байки и анекдоты. Несколько раз играли в «аксуек» - «белую кость». Эту игру в нашем ауле не знали, с ней познакомили нас приезжие студентки.
Как-то посреди ночи мы забрались на верхушку горы Киик. Ребята схитрили и, сославшись на усталость, остались со своими девушками по пути. На самый верх, едва переводя дыхание, поднялись лишь мы с Салимой.
На этой высоте росла высокая альпийская трава. Выбрав место поудобней, мы расположились отдохнуть и долго сидели там, ярко освещенные луной. Отсюда, купаясь в матово-белом колдовском сиянии, расстилалось предгорье. И аул наш колыхался в молочном мареве.
Я прожил в этом ауле восемнадцать лет, но ни разу не поднимался на гору Киик. Красивая картина волновала чувства. Взволнованные чувства сковали мне язык. Рядом со мной сидела Салима, нежная, как перышко филина. Я мечтал обнять ее, поцеловать, но не находил в себе сил. Боялся спугнуть ее неловким движением. Мнилось, что девушка вскочит, как детеныш косули, и убежит. Я страшился обидеть ее и навсегда лишиться птицы счастья, что была в моих руках.
На эту высоту мы поднялись, обливаясь потом. Сегодняшняя ночь как будто была довольно теплой. Может быть, оттого, что мы сидели без движения, стало прохладно. Осень давала о себе знать. Я заметил, что Салима замерзла и дрожит всем телом. Сделав над собой усилие, я скинул короткую куртку и накинул ей на плечи.
При подъеме на гору я, кажется, был гораздо разговорчивей и смелей. Куда что девалось? Теперь я точно потерял дар речи. Вот так, неподвижно мы просидели около получаса.
В следующий миг Салима вдруг сняла мою куртку и, постелив ее на траве, возлегла на нее. Она крепко зажмурила глаза и сделала вид, что от сильной усталости ее сморил сон. Вид распростертой на траве девушки прямо-таки парализовал меня. Неизвестно, о чем я подумал, чего испугался, конечности мои онемели, тело покрылось мелкой дрожью. Мне ничего не оставалось делать, как молча сторожить лежащую рядом со мной девушку.
В какой-то момент Салима медленно поднялась и всем своим видом дала понять, что пора возвращаться. «Что ж, уходим, так уходим», - подумал я с опущенной головой.
Не произнося ни слова, мы поднялись с места и так же, молча, начали спуск к подножию.
043.
Еще при спуске с горы я почувствовал, что совершил какую-то непоправимую ошибку.
Я заговорил было, но Салима отвернулась и не ответила. Сделала вид, что расслышала. У самых дверей общежития она равнодушно протянула мне кончики пальцев и с прохладцей попрощалась со мной.
Я казнил себя за то, что оказался таким размазней и недотепой, кусал пальцы. На следующий день, когда после танцев молодежь собиралась погулять, я робко подошел к Салиме, но она прошептала мне на ухо: «Ты – хороший парень, я уважаю тебя. Но не утруждай себя, прошу».
Стало ясно, что таково заключительное слово девушки, и дальнейшие попытки выяснения отношений и оправдания не имели смысла.
В глазах моих потемнело, и я остолбенел, сам не свой.
Так я познал, какая горькая и коварная это штука – любовь.
044.
Та самая Салима теперь сидела передо мной!
Моя первая любовь, мое первое чувство, чистое, как утренний воздух, кристальное, как горный ручей. А также первый удар, полученный мной от жизни, первая сердечная рана.
Я долго оправлялся от этой раны. Знала ли Салима о моих бессонных ночах, днях отчаяния, когда бывали минуты полного разочарования в жизни…. Откуда ей знать? После того, как она, отвернувшись, ушла прочь, мы с ней больше не виделись, не созванивались по телефону, не переписывались. И потому у меня остались несведенные счеты с девушкой, а в груди – выжженное клеймо сожаления…
После первого стола был объявлен перерыв. Гости разделились на две группы.
Мужчины, раскрасневшиеся как петушиные гребешки, уединились в боковой комнатушке и принялись резаться в карты.
Женщины собирались маленькими группками и беседовали, точно не виделись вечность. Через некоторое время включили зажигательную музыку, и следом начались танцы. Мужчины, увлеченные преферансом, даже бровью не повели на женский призыв: «Вы что, карты впервые увидели? Идите танцевать, развлеките женщин!». Сколько б их ни умоляли, все напрасно. Посреди женской половины, подергиваясь под музыку, остались лишь я и тамада Самаркан.
Улучив момент между танцами, я подхватил под руку Салиму, и повлек наружу.
Было прохладно. Весь потный, я сразу же ощутил пронизывающее дыхание первого снега. Нам не удалось постоять во дворе, поговорить по душам. Из того короткого разговора я уловил, что после пединститута Салима поселилась в Аршаты и вышла замуж. Много лет проработала в школе рядовым учителем, а сейчас она – заместитель директора по учебной и воспитательной работе. Имеет взрослую дочь, двоих сыновей. Муж ее был лесником и несколько лет назад, собирая шишки, упал с дерева и разбился.
- Ох, времечко! – вздохнул я.
- Что такое?
- Да вот приходит на память всякое и царапает сердце, как кошка.
- А что? О чем-то жалеешь?
- Еще как…
Салима заливисто засмеялась, смех ее, подобный звону фарфоровой чашки, был мне приятен.
Выходит, столько времени прошло, а я, бедолага, до сих пор привязан к этой девушке. Конечно, не к этой располневшей зрелой женщине Салиме, а к моему юношескому воспоминанию. Это оно согревало сердце огненной ностальгией, будоражило и одухотворяло мое нынешнее состояние.
- Что говорить о нас, - произнесла Салима, скользя взглядом. – Наша счастливая пора промчалась и осталась позади. Таков закон жизни. Это было предначертано судьбой…. Ты, вроде, сказал, что холост? Если это правда, я познакомлю тебя с одной молодой особой. Отличная девушка, не пожалеешь. Но будь осторожен, душа у нее хрупкая, не порань!
Я не ожидал от Салимы такого поворота и смутился. Видно, заметив это, она ласково погладила меня по спине: «А ты все такой же застенчивый!» и, взяв под руку, повела в дом.
Сейчас я прихожу к мысли, что художником меня сделала Салима…
Она растоптала мою честь, ушла, презрев и считая недостойным себя. Надолго ушла…. Правда, однажды мы случайно встретились с ней в общежитии Устькаменогорского пединститута на улице Образцовой. Прохладно поздоровавшись, Салима изобразила улыбку и гордо прошла мимо. Потом подошла к взъерошенному увальню и под руку с ним скрылась за дверью.
И вот теперь эта встреча.
После истории с Салимой я понял, что мне придется доказывать себе и всем окружающим, что я не глупец и не растяпа. Я еще молод, отлично сложен, обладаю недюжинным умом и пламенным сердцем.
Учась с прилежанием в течение четырех лет, я окончил художественное училище. А после училища загремел в армию. Вернувшись со службы, я год работал, чтобы собрать средства для дальнейшей учебы. С наступлением лета рванул в Ленинград. Все мои пожитки уместились в единственной сумке. Я торопился сдать документы в академию Репина. Но в тот год экзамены я завалил. Моих знаний, полученных в училище, оказалось недостаточно. К тому же, вероятно, сказались два года, проведенные в армии, когда вместо карандаша мне пришлось держать в руках автомат. В рисунке слаб, в пропорции много ошибок, нет уверенности в себе, - таков был приговор. В живописи не было целостного восприятия вида, раздробился я, обмельчал.
Несмотря на неудачу и провал, я домой не вернулся. Целый год разгружал вагоны, грузил уголь, разносил товары по магазинам. Ночами мыл полы в институте, а по вечерам посещал дополнительные занятия, изокружок. Эти вечерние занятия послужили мне большой поддержкой, многое мне открыли, отточили мои способности. Благодаря им на следующий год мне улыбнулась удача, и я был зачислен в институт на факультет живописи. Пять лет усердно учился я там, в мастерской Евсея Моисеенко и окончил его с отличием. Меня назвали талантливым, подающим надежды молодым художником. Приехав в Алматы, сразу начал преподавать в училище, в котором когда-то учился сам. Вначале для творчества мне выделили мастерскую, а спустя два года я получил двухкомнатную квартиру в одном из микрорайонов города.
Были забыты все душевные мытарства, зажили сердечные раны.
Но в сердце моем осталась обида на женскую половину человечества.
046.
Вот как все обернулось. Теперь та Салима, сияя, сидела передо мной, дебелая, степенная. Верно казахи говорят: «С крашеной посуды краска может сойти, но тайна ее останется». В женщине по сей день проглядывали горделивость и аристократизм. Да и сидела она торжественно, как пава.
Музыка утихла, женщины вышли передохнуть.
Разрумянившаяся Салима уединилась в беседе с молодой учительницей, которую представила мне как Гульзину. Она заметила мой пристальный взгляд, тепло улыбнулась и знаком подозвала к себе.
- Оказывается, вы оба свободны, познакомлю вас поближе, - сказала Салима.
Я поклонился Гульзине и снова пожал ей руку.
Она была нежна, подобно струящемуся шелку. Я наблюдал за ней, когда она танцевала, наполненная радостью жизни. Изящная, с тонкой талией, - настоящий образец казахской красавицы.
Тамада Самаркан не дал нам рассиживаться, веселил играми и конкурсами в танцах.
Гульзина, покачивая бедрами и притопывая ножками, блестяще исполнила «цыганочку» и «частушки». Первый приз с почестями, под туш, был вручен ей. Следующим объявили казахский национальный танец. И тут же раздались звуки «Камажая». Гульзина вызвала меня на середину и закружилась, увлекая за собой. Мои неуклюжие движения не стали помехой, и нам вручили приз как лучшей танцевальной паре. Мы поделили его. Покружившись в вальсе под ритмичную песню Шамши, я и моя партнерша удалились на свои места.
- Где вы научились так замечательно танцевать? – спросил я.
Выяснилось, что в студенческие годы Гульзина посещала кружок танцев. Вот почему в ее движениях угадывался профессионализм…. Молодец! Бесспорно, эта девушка была королевой сегодняшнего вечера.
Женщинам, видно, надоели танцы, и они, рассевшись вдоль стены, затянули песни. Хором спели песню «Друзья». Субтильная супруга торговца приятным голосом исполнила сольный номер. Затем вокруг зашумели: «Пусть Гульзина споет!»
Судя по пылким просьбам, та танцовщица еще и певунья?
Взволнованная, грациозно ступая, Гульзина вышла на середину.
- Ну, начинай, Гульзина-жан! – раздавались нетерпеливые возгласы.
Но Гульзина стояла, безмолвно опустив голову, точно робея.
«Что ж это она, раз вышла, начинала бы уж!».
- Пусть уважаемый художник сделает заказ…. Какую он хотел бы послушать песню? – сказала вдруг Салима.
Я вздрогнул, будто меня толкнули в бок. Ничего не понимая, посмотрел на Салиму. Она хитро подмигнула мне и заулыбалась.
«О чем это она, какая еще песня?»
- Агай, какую вы хотели бы послушать песню? – Гульзина бросила в мою сторону несмелый взгляд.
Я растерялся, не находя слов.
- Да, задание от вас, не подведите девушек! – подковырнул и аким Каныбек.
- Ну, агай, какая песня вам нравится?
Гульзина смотрела на меня в трепетном ожидании. Взоры всего собравшегося люда были устремлены ко мне, будто не было им занятия интересней.
- Ну, я даже не знаю…, мне много песен нравится.
- Тогда выберите одну из них.
- Вы все казахские песни знаете?
- Не все, но довольно много.
- Итак…
- А что, если начнем с Абая? Например… «Безветренной ночью светлая луна».
Большие бархатные глаза Гульзины вспыхнули. Улыбнувшись, она исподлобья взглянула на меня и начала негромким голосом, а дальше развернула песню и понесла ее вширь. Голос ее был ясным, ласкающим слух. Я чувствовал, что она пела для меня, но глаз не поднимал, так и слушал с опущенным взором, наслаждаясь пением. Когда песня угасла, я поднялся с места и с поклоном поблагодарил.
И вправду Гульзина оказалась хорошей певицей. По просьбам гостей она исполнила еще пару-тройку песен.
Был объявлен последний танец этого вечера. В этот раз я решительно подошел к Гульзине и пригласил ее. Мы плавно закружились с ней в ритме вальса.
- Не слишком ли мы вольно ведем себя? – кокетливо спросила Гульзина. – Не придется краснеть?
Ничего не понимая, я нахмурился и пожал плечами.
- По поговорке: «За домом кто-то есть», - я ведь связана с семьей. В аульной местности впоследствии могут быть разговоры.
Только тогда до меня дошел намек молодой женщины. Я знал нравы аульной жизни, сплетни в ауле распространяются как огонь, подхваченный ветром. Появляются завистники, тычут вслед тебе пальцем, глумятся. Затруднительно бывает даже выйти на улицу. Вот на что намекала Гульзина.
- Не переживайте, не думаю, что мы дадим повод для пересудов, - заверил я.
- Если захотите послушать песни, скажете? - прошептала Гульзина, касаясь губами моих ушей. Ее горячее дыхание опалило меня с ног до головы.
- Что касается песен, то я ненасытен. Могу слушать днем и ночью, - произнес я, кивая и улыбаясь во весь рот.
- Ну, тогда никому не раскройте эту вашу тайну!
Гульзина шаловливо взглянула на меня. От этого взгляда сердце мое растаяло и наполнилось сладким предчувствием.
Вечеринка пришла к концу. Прощаясь друг с другом и хозяином дома, люди начали расходиться по домам.
Эта вечеринка стала для меня незабываемым событием и оставила добрые впечатления от местных аульчан. Я получил заряд бодрости и вернулся воодушевленным. До самого Тайпака в ушах моих звучала песни Гульзины.
«Безветренной ночью светлая луна…»
047.
Я долго не мог уснуть, снова и снова вспоминая вечер, проведенный в доме акима.
Первым делом всплыла в памяти тайна Гульзины, которую Салима успела прошептать мне между делом.
У нее был муж по имени Сембигали, да лучше б его не было…. Вот уже семь лет как он уехал в город. С тех пор, словно в воду канул. Пропал бесследно, безвозвратно. Никто не знает, где он, и что с ним. То ли в городе бандиты убили, то ли бабенка какая к рукам прибрала, ничего неизвестно. Короче говоря, вот уже семь лет, как Гульзина жила без мужа. Непорочная, как первый снег, все эти годы она ни одному мужчине не взглянула в глаза, не дала повода для кривотолков. Жила в этом ауле, воспитывая единственного сына Мурата и заботясь о старой свекрови.
По словам Салимы, Гульзина была родом из аула Енбек, что лежал в предгорье. После окончания института летом приехала сюда с подругой праздновать получение диплома, да так и осталась здесь. Не то чтобы осталась сама, а на одном из гуляний аульные джигиты выкрали ее и силой выдали замуж за того Сембигалия.
- Запутанная история, зачем тебе лезть туда? – сказала Салима, не вдаваясь в подробности.
Из этого рассказа я уловил, что Гульзина не успела насладиться девичеством.
Если ее украли и насильно соединили с мужем, то получается, и любви-то как таковой не было…. Да, откуда ей быть, это ясно, как день. Выходит, эта молодая женщина не задыхалась в пламенных объятиях любви, не успела познать сладости девичества, краткого, как жизнь полевого цветка, не измерила глубины молодой страсти, не ощутила ее щекотливых порывов. Словом, не изведавшее радостей плоти, прелестей супружества раненое создание, обиженное жизнью и судьбой.
«Если это так, и Салима сказала правду, то я покажу этой женщине, что такое любовь, так, что навсегда запомнит», - распалился я вдруг.
Нежная и благовоспитанная, желанная, как прохладный кумыс в знойный полдень, не создана ли она для большой любви?
Думы о Гульзине затронули во мне былое, смешали его с настоящим, и я позволил мечтам унести себя на своих крыльях.
048.
О, мои прелестницы!
Девушки и молодицы, делившие со мной тайны и печали жизни, дни радости и ночи шалостей…. Где вы теперь? По каким градам и весям раскидала вас жизнь? Я порой скучаю по вам, мечусь в поисках тех мгновений сказочной неги. Вы были украшением моего настроения, цветами в поле моей жизни. Сейчас я уже не помню имен многих из вас, да и образы стерлись из памяти. Но не забыть мне подаренную вами любовь, щедрость и тепло ваших чувств. По сей день они напоминают о себе ласковым покалыванием в сердце. В минуты грусти они придают мне сил, в минуты страданий заряжают энергией. Вы кипучий родник моего творчества, и вдохновение его, и успехи. Ах, если б я мог узнать, где вы теперь? Или, заполучив по мужу, за суетой семейной жизни забыли обо мне? Все равно я ревную вас. Да, я бегал от любовной заразы, но в каждую из вас я влюблялся как мальчишка, отдаваясь чувству всем своим существом. Наши встречи были кратки, но к каждой я относился с искренним уважением и почитал как богиню.
Я знаю, что некоторые из вас любили меня всей душой. Правда и то, что они мечтали создать со мной супружеский союз. Но я не был готов к такому ответственному шагу. Я был из тех, кто вознес тернистый путь искусства выше семейных уз и пожертвовал всем ради этого пути. Невзирая на привязанность друг к другу, именно по этой причине мне пришлось расстаться со многими вами.
Как бы там ни было, в моей жизни остался неизгладимый след от вас, непреходящая светлая грусть.
О, дорогие музы мои!
049.
Я не смею вторгаться во внутренний мир другого человека, не собираюсь размышлять о вкусах и ощущениях, делать предсказания. Знаю также, что не имею права говорить и вмешиваться. Потому что каждый человек – это отдельный мир. Эта истина опять-таки принадлежит не мне, а маститым мыслителям прежних эпох. В таком случае, и я – отдельный мир…. Мой мир не возвышает любовь так, как это написано в книгах и воспето в песнях.
Думаю, что вы не будете в обиде на меня за это. У меня свое восприятие любви, свое понимание…. К примеру, любовь для меня – это один из видов психического заболевания. Если говорить точнее, то обыкновенное нервное расстройство. Можно привести не сотни, тысячи историй, когда люди сгорали, не выдерживая любовных недугов, погибали от них. Что же это тогда, если не болезнь?.. В моем понимании это зависимость, подобная наркомании и алкоголизму.
Любовь сводит с ума, лишает человека сна и смеха, заставляет блуждать средь бела дня, расстраивает душевное состояние. Поднимает давление, сдавливает виски, мрачно нависает над головой. Эти свойства любви и я испытал когда-то в пору своей юности. По этой причине я научился обуздывать чувства, держать себя под жестким контролем и даже направлять. Я стремился сохранять вольность своего творчества, личную свободу и независимость. Из жизненного опыта я усвоил, что отношения с женщинами можно довести до простоты, и потому одарил себя свободой на любовном ристалище. Мной руководил страх, что иначе жизнь промчится в беспросветной мелкой суете, и я ничего не успею сделать в искусстве.
Я один из тех смертных, которые построили свою жизнь по этим принципам и наполнили таким смыслом.
050.
В мастерской художников всегда царят шум и веселое пиршество.
Собравшись в каком-то месте, они целый день могут провести в разговорах об искусстве и в спорах до хрипоты. Такие сборища, разумеется, не обходятся без выпивки. Кончается это приглашением женщин и гуляниями до утра. Жены многих из них привыкли к тому, что мужья задерживаются и даже могут заночевать где-нибудь. Некоторые наивно полагают, что их благоверные заняты творчеством в мастерской и не утруждают себя ожиданием.
Я стараюсь быть подальше от таких безалаберных загулов. Не иду на поводу у своих разнузданных товарищей по кисти и незаметно ретируюсь. Кроме того, моему здоровью претит спиртное. Сегодня оно может вскружить тебе голову, развязать язык, а наутро ходишь больной, едва передвигая ноги. От всего воротит, жизнь не мила, брезгуя самим собой, мучаешься, не находя себе места.
А что касается женщин, то тут я своего не упустил. В отличие от тех собратьев, что беспорядочно шумели, переливая из пустого в порожнее, я не отстал, скорее даже обскакал их.
- Уступишь свою мастерскую сегодня? – спросит, бывало, кто-нибудь из коллег.
- А что случилось?
- Да что может случиться, так… познакомился с одной подходящей женщиной…
- У тебя ведь есть своя мастерская?
- Там встречаться опасно. В последнее время жена что-то ворчать начала. Боюсь, как бы не объявилась проверять…
- И куда мне прикажешь уйти?
- Ты же холостой, можешь пойти домой.
- Мастерская сегодня занята.
- Занята, говоришь?.. Тогда, может, завтра?
- На завтра уже забил один друг, писатель.
- А послезавтра?
- Эй, вы думаете, моя мастерская бордель, что ли?
Такие разговоры частенько случались между нами, братьями-художниками.
051.
Опять я спал, не шелохнувшись, до самого полудня.
В этот раз, не «отравившись чистым воздухом», как говорил Мунарбек, а под влиянием выпивки.
Глаза набрякли, голова была налита свинцом, затылок пульсировал от сильной боли, не давая шевельнуться.
Внутри – словно объятый пожаром лес, язык распух, дыхание было прерывистым, от самого себя тошнило. Судя по этому состоянию, нарезались мы вчера порядочно. Учитывая, что назавтра выходной, спешить некуда, гости дали себе волю и разошлись лишь за полночь.
Аким Каныбек сам лично доставил меня на своей машине. Он был во хмелю, и я опасался, что машина его заглохнет на переправе, и нам придется ночевать посреди воды. Но опасения мои были излишними. Сельскому человеку, которому все равно – суббота, воскресенье, день, ночь, - ничего не стоило сесть за руль в подпитии. Это обратилось у аульчан в ежедневную привычку.
Участковый полицейский раз в месяц поднимался из нижнего аула. А про ГАИ в этих дебрях даже не слыхали. Поэтому полная свобода, никому ни до кого дела нет, каждый сам себе хозяин. С шумом-грохотом, подпрыгивая и раскачиваясь, Канеке проехал через Бухтарму без остановки, словно через какую-то речушку. Даже быстрее, чем обычно…
Поднялся я, а Мунарбек, да исполнятся его желания, уже ждал меня за накрытым столом. Самовар пыхтел, исходя паром, посредине стояло блюдо с нарезанным мясом, с краю стола, невинно сверкая боком, торчала бутылка с единственной рюмкой. Получалось, что сам он – непьющий? Хотя, глядя на стоявшие торчком усы, дряблое не по годам, багровое лицо и покрасневшие глаза, думалось, что он – мастак по этой части.
- Ага, умойтесь и садитесь за дастархан.
- Я ведь на «диком отдыхе»…, может, не буду умываться?
- Как хотите. Сначала вам надо опохмелиться, для аппетита.
- Ты бы тоже выпил со мной.
- Не-ет!
- Или начальства боишься?
-Дело не в этом, я ведь на работе.
- Да ладно, чего там. Налей себе тоже.
- Мне нельзя…. Если я выпью, то уйду в запой. Потом меня неделями не остановишь.
- Ойбай, молчу! Беру свои слова обратно.
052.
У меня не было в привычке опохмеляться по утрам, разве что насильно кто-нибудь из приятелей заставит. После слов Мунарбека, вообще пропало желание садиться за стол. Я повесил полотенце на плечо и вышел из дому.
Закончив водные процедуры, сделал на веранде гимнастические упражнения, оглядел окрестности.
Вроде только вчера вся земля до горизонта была покрыта белым снегом. Теперь от этого снега не осталось и следа. Он лежал лишь в горах, рваными пятнами белел по лощинам и низинам, в укрытых от солнца местах, под кустами и караганником.
Я зашел в дом и, чтобы не обидеть Мунарбека, отведал пищи. Товарищ мой был расстроен тем, что я не опохмелился. Я принялся обстоятельно объяснять ему, что по утрам мне нельзя пить, внезапно может подняться давление.
- Ты слышал про Савву Морозова? – спросил я.
Как и следовало ожидать, Мунарбек «с этим человеком не был знаком». Но зато слышал о нем много историй. Морозов длительное время работал в Ореле зоотехником, широко прославился и был окружен почетом. Когда Казахстан получил независимость, он уехал в Россию.
- Пускай, уехал, так уехал…. Так вот, этот Морозов говорил: «По утрам даже лошади не пьют».
- Да ведь лошадь, сердечная, не может сказать, что у нее голова болит, а то бы тоже пила, - вздохнул Мунарбек.
Я не ожидал такого ответа от него и вначале недоуменно подумал: «О чем это он?», а потом весело расхохотался.
Для вылазки на природу и создания новых этюдов не было вдохновения, читать тоже не хотелось. В груди было пусто, в душе – мрак, голова – как колокол. Мной постепенно овладело подавленное состояние покинутости, словно никому на всем белом свете до меня не было дела.
Одевшись потеплее, я вышел из дому и побрел, куда глаза глядят.
053.
Я шел по берегу Бухтармы.
На Алтае стояло бабье лето. Я считаю, для художника бабье лето – исключительно важное время года.
Не знаю, как другие мои братья по кисти, но для меня самого осенние месяцы – особая статья. Они близки моему духу, созвучны с моей душой.
Спору нет, весна тоже замечательное время года. Прохладный ветерок, чистый воздух, цветение и благоухание молодого разнотравья. Однако весной невозможны вольные, безоглядные прогулки по лесам. Особенно горные леса в это время кишат клещами. Не дай бог, прицепится энцефалит, пиши пропало. Ну а если повезет, и удастся выжить, все равно пожизненная инвалидность обеспечена.
Насколько я знаю, даже в первые месяцы лета опасность от клещей сохранялась. Как ни манили красоты летнего леса, все же свободно писать этюды не представлялось возможным. Не можешь также разлечься на зеленой траве и отдохнуть, ибо полчища комаров и всякой мошкары вмиг, назойливо жужжа, атакуют тебя со всех сторон. Не дадут по-человечески расслабиться и взбодриться.
А вот бабьим летом все иначе. Природа успокаивается, становится сдержанной. Погода тоже устанавливается. Строптивые реки теряют свой пыл, кротко и тихо несут прозрачные воды.
Именно в эту пору начинается рыболовная страда. Природа расцвечивается сотнями красок и блистает в этом богатом наряде.
Потому для меня осень имеет особое значение и содержание.
Я безмерно доволен, что судьба занесла меня на Алтай в благодатную пору бабьего лета. Предчувствую, эта поездка обещает некие перемены в моей жизни.
054.
В одном месте берег был покрыт мелким желтым песком, - самый подходящий пляж, чтобы знойным летом получать здесь загар. Я не выдержал, скинул ботинки и побежал босиком по песку. Казавшийся теплым сверху, глубже песок был влажным и студеным. В один миг холод пронизал мои ступни. На краю этого «пляжа» раскорячилась на камне пестрая ящерица, видно, грелась на солнце. Ночи стояли холодные, да и дни не назовешь теплыми, так почему же ящерица не спит до сих пор в своей норе? Или эта тварь потеряла своих и теперь одинока, как и я? Имей она крылья, давно б уже улетела, как птица, в далекие края. «Да разве в этой жизни только ящерицы лишены крыльев?» – мысленно философствовал я, глядя на распластанную на камне ящерицу.
Ну а если говорить прямо, кому нужна эта моя философия? Уныние заставляло меня впадать в пустые размышления, снова обуяла тоска.
«До каких пор я, несчастный, буду мытариться, не ведая покоя?»
На берегу реки, пристав к стволу старой березы, лежали две «мордашки». Это была сети, сплетенные из ивовых прутьев, их обычно ставили, когда рыба шла на нерест. Изобретение мошенников-браконьеров. Прутья местами разошлись, и «мордашки» сплющились. Видимо, весеннее половодье вытеснило их на берег, и волна с силой ударила по ним.
Под гнетом беспокойных мыслей я неприкаянно брел вдоль реки.
055.
По сути, быть художником – это ведь божий дар. Редкий талант, который не каждому дается.
Однако будь ты трижды талантлив и одарен, потребуется время, пока созданное тобой произведение получит достойную оценку, станет известно общественности, много времени. Выдающееся произведение – это, зачастую, единственная картина. Но если не выставлять ее на выставках, не продвигать к зрителю, то есть, не проявлять активности самому, - то и выдающаяся твоя картина может остаться без внимания, незамеченной. И будет стоять зачехленной в мастерской, не нужная ни тебе, ни другим.
Когда я думал об этом, мне хотелось податься в писатели. Напишешь приличную книгу, хоть как-то распространится, разойдется по магазинам и библиотекам. Не один, так другой увидит, прочтет. Вполне возможно, что напишет похвальную статью в газету, привлечет внимание читательской аудитории. С этого начинается оценка твоего труда, а дальше могут прийти признание, слава.
Путь же художника тернист, стать известным весьма и весьма трудно. Я иногда поражаюсь разнокалиберным критикам творчества художников, ценителям и мастерам фабриковать мнения. Особенно, когда за анализ принимается писательская братия и журналисты, - хочется, заткнув уши, бежать без оглядки. Все наперечет знатоки, прорицатели и ясновидящие, сыплют «перлами», как из дырявого мешка. Есть такие, которые даже в набросках и этюдах твоих готовы искать значимый сюжет и высокое содержание. Даже там они хотят увидеть жизненно важное заключение и глубокую философскую мысль.
Время от времени на страницах газет и журналов публикуются статьи о какой-либо отдельной картине или новой выставке. Но многие из них – пустые и поверхностные, чесание языком, да и только. Такая скука и досада берет! Не дождавшись от этой ученой среды вразумительных слов, внушительных мыслей, толковых бесед, художник выбивается из сил.
Это все от того, что горе-критики хотят показать себя осведомленными и знающими. Такие дилетантские умозаключения толкают искусство на ложный путь, дезориентируют зрителей, влияя на их вкусы. Наши высокообразованные знатоки не учитывают эту сторону, им важны лишь их собственные цветистые разговоры и бесплодные слова.
Нет ничего о гармонии красок, новизне и глубине, направлении в искусстве, художественных возможностях, душевных порывах и трепете автора картины. Общество художников давно уже привыкло ко всему этому, смирилось. Ни слова протеста не выскажут, не воспротивятся. Да и защищаться не пытаются. И в самом деле, они не могут тягаться с ними, ибо знают, что это бесполезно. Им не одолеть в словесной борьбе этих краснобаев, зарвавшихся в своем словоблудии…. Наитием своим они чувствуют истину, да слов недостает.
Испокон веков мир художника был загадочным. Постороннему человеку, не вдыхавшему густых запахов красок, горелого клея, не обрабатывавшему поверхности холста, трудно проникнуть в этот мир. Поэтому там давно сформировалось правило: «Художник для художника». Самое дорогое для них – лишь оценка и заключение коллег. Дорогу в большое искусство тоже открывают такие встречи, и правда подлинного искусства рождается на подобных схватках профессионалов.
Мои мысли прервал трубный глас маралов, доносившийся с гор. Я повернулся на олений призыв и застыл, завороженный.
056.
Я приблизился к берегу и с обрыва бросил взгляд на Бухтарму. Зеркально-прозрачные воды Бухтармы ярко голубели внизу. Однообразный шум воды был приятен для слуха. Врачи говорят, что журчание реки исцеляет нервные болезни, раз так, это – именно то, что мне нужно… Я – тот самый, чьи нервы истончились донельзя. Решив «немного подлечиться», я постоял у кручи некоторое время.
Река, беснуясь, выходившая весной из берегов и заливавшая окрестные леса, сейчас спокойна, вода в ней порядочно опустилась. Потому и Каныбек так лихо проскакивал ее. Да и то в одном только месте это возможно – на широко разлившейся переправе. А так с Бухтармой шутки плохи, ей доверия нет. Издревле ее нарекли за крутой нрав и безудержную ярость «кровавой рекой».
Откуда-то донесся прерывистый рокот мотора. Не самолет ли, подумал я и, заслонив ладонью глаза, посмотрел в небо. Небо что-ли снизилось? Вообще я заметил, что небо на Алтае кажется низким.
Это был не самолет, вдалеке, не разбирая дороги, двигалась серая машина. Такие машины в этих краях называют «таблетками». Я заметил, что «таблетка» та прямиком идет в мою сторону. Кто же это?
Машина подъехала, развернулась и остановилась неподалеку. Из нее высыпалось пять-шесть человек. Среди них было две женщины в развевающихся платьях. Я узнал их, это были гости вчерашней вечеринки в доме акима…. Вон та тонкая женщина в голубом платье, что шла с краю, - Гульзина. Рядом с ней уточкой переваливалась Салима.
- Еле нашли вас, прямо обыскались! – радостно воскликнул Каныбек, засеменив мне навстречу. – Мунарбек тоже не заметил, куда вы ушли.
- Ну и почему вы меня ищете?
- Уважаемый агай, ну как же…
Не находя слов, Каныбек засмущался, и тогда вмешался вчерашний тамада Самаркан.
- Казахи говорят: «Огонь, который ты зажег, сам и погаси».
- А разве эта песня была не о любви?
- Вы вольны трактовать как угодно. Но мы прибыли сюда опохмелить вас.
В мгновение ока джигиты разожгли костер и повесили над ним чайник. На лужайке с вытоптанной травой раскинулась пестро-желтая скатерть.
Самаркан придушил за глотку одного из «зеленых змиев» и торопливо подошел ко мне: «Агай, пока чай вскипит, еда будет готова…», - проговорил он, избегая смотреть прямо. Лицо его было помятым, как неглаженая рубашка, вид такой жалкий, что я невольно засмеялся.
Мужчины приблизились ко мне и до чая опрокинули по нескольку рюмок. Судя по их словам, они действительно приехали с целью «прогулять агая по окрестностям, не дать ему засидеться в четырех стенах дома».
Сегодняшний облик Салимы был гораздо лучше вчерашнего, в нем прибавилось статности, благородства. Эта вот ее царственность когда-то стала для меня, бедняги, насмешкой судьбы. Как мог угодить простой аульный юноша высоким запросам этой девушки? Не только простым я был тогда, а простодушным, застенчивым лопухом, что там скрывать…. Только позже я как будто влился в ряды нормальных людей, окультурился, стал зваться образованным, добившимся кое-чего.
- Ты похожа на графиню, - сказал я ей, когда мы уединились.
Салима даже не повернулась, лишь губы ее тронула легкая улыбка:
- Из какого романа?
- Разумеется, Толстого.
Она приподняла голову и чуть повела подбородком в сторону своей спутницы:
- Что говорить обо мне. Я – в числе тех, кто оставил в прошлом счастливую пору любви. Мне знакома наука о понимании мужской сути. Мужчины твоего возраста не обращают на таких, как я, внимания, считают старыми. Тебе нужен молодой дух, и это известно. Ты свободен, поэтому держи ту молодку, с которой я познакомила тебя вчера. Не теряй времени, займись ею.
Уста мои вдруг сами собой зашевелились, будто кто-то уличил меня в краже.
057.
Пожалуй, сельские жители тоже умеют хорошо отдыхать.
Мы в свое время немало поколесили по регионам казахской земли. Слава богу, жизнь посмотрели, и на нашу долю выпала толика уважения и почета соотечественников, набрались кое-какого опыта по различению хорошего и плохого. Однако сегодняшнюю встречу в долине Бухтармы я бы не променял на некоторые из тех пикников.
Это были совершенно спонтанные и развеселые посиделки.
Один из мужчин ушел было с укрюком вдоль реки и вскоре принес полпакета хариусов. Следующий черед был за рыбным супом, который русские называют ухой. Приготовление его тоже было полно всяких тонкостей и секретов, как какое-то отдельное ремесло. Пока готовилась уха, Каныбек манипулировал со свирепым видом и не подпустил никого. Сам добавлял разные приправы для вкуса: и красное вино, и всякую зелень. Даже картошку с подливой никому не доверил.
И когда Каныбек подал каждому из нас по чаше того рыбного супа, то мы так зацокали от восхищения, что языки едва не приклеились к небу.
До следующего блюда был объявлен перерыв. Все повставали с мест и разбрелись, кто куда, подышать свежим воздухом.
Неподалеку Гульзина беседовала с Самарканом. Шелковистые волосы ее струились. Оба то и дело смеялись чему-то. Ах, думал я, не жаль и умереть, задохнувшись в тех густых волосах!
Отрекшийся от женщин, я, несчастный, глядел на Гульзину, как взъяренный бык, увидевший красную тряпку. И к тамаде Самаркану попусту ревновал.
Я ведь только вчера узнал ее…. Что же получается? За один день Гульзина сумела покорить мое сердце и залить светом мою почерневшую душу? Или это следствие того, что я давно томлюсь, оторванный от женщин? Я ничего не мог понять. Как бы там ни было, внутри у меня что-то расцветало.
Что и говорить, я совсем не ожидал такого оборота дел.
Самаркан ушел в лес собирать сухой хворост. Воспользовавшись этим, я поспешно подошел к Гульзине. Движения мои были непринужденными, но едва наши глаза встретились, как в сердце прошла дрожь. Ее черные глаза-черемушки сияли…. Если говорить начистоту, то прежде мне не доводилось видеть таких прекрасных глаз. Я ведь художник, намертво запоминаю подобные вещи. Одному богу известно, но и в оставшейся жизни вряд ли я когда-нибудь встречу такие прелестные очи.
Во всем моем существе точно проснулось что-то.
Оттого ли, в глазах моих потемнело, и голова закружилась. Я начисто забыл, зачем подошел к Гульзине.
Она же смотрела на меня с теплой улыбкой. Я заметил, что румяное ее лицо оживилось.
058.
Как чудесен отдых на лоне природы! Истинное наслаждение для души.
Здесь все иначе. Освобождаешься от ежедневной суеты, беспросветной борьбы за существование. Ни о чем не беспокоясь, отдаешься в ласковые объятия мира и тишины.
В эти дни я испробовал вкус такого блаженства! И чем больше я вкушал, тем больше желал продлить мое состояние. Испить эту чашу до самого донышка, до полного утоления жажды.
Я раскрыл свое сердце аршатинцам, поделился с ними моим сокровенным желанием. Затем провозгласил тост, в котором поблагодарил земляков за их искреннее участие и оказанную мне честь.
059.
С наступлением сумерек джигиты посадили меня в «таблетку» и доставили в Тайпак.
Не раздеваясь, я повалился на кровать, ибо был сильно пьян, к тому же устал неимоверно.
Не знаю, сколько спал, но в какой-то момент я, вздрогнув, испуганно проснулся от чьего-то плача.
Плач ребенка послышался мне прямо у самого уха.
Я вскочил, вышел наружу и с тревогой огляделся вокруг. На глаза мне попалась лишь беспечно пасущаяся рыжая лошадь.
Я подумал сначала, что это журчание воды, но поблизости никакого ручья не было. Река рокотала вдалеке, сюда ее шум едва доносился. Тогда что же это такое? Или сон приснился? Но ведь я слышал так отчетливо, будто наяву. Жалобный голос ребенка до сих пор стоял у меня в ушах…
Как бы это не оказалось галлюцинацией.
Я закрыл изнутри дверь, разделся и снова лег в постель.
060.
Спустившись на берег Таутекели, я написал пару этюдов. Потом выполнил рисунок сангиной, используя также и белую краску по коричневой бумаге. Я изобразил на ней листья дягиля, краснеющие плоды боярышника, сплетенные канатами и выпирающие из земли корни лиственницы. И этюдами, и рисунком я остался доволен.
За работой день незаметно перевалил за полдень. Выяснилось, что Мунарбек уже давно вернулся из аула, приготовил обед и вовсю ищет меня.
Больше в этот день я никуда не ходил, после обеденной трапезы расположился на веранде и до вечера читал книги. Затем провел еще некоторое время, размышляя над композицией будущих картин и малюя наброски.
Когда стемнело, и замерцали звезды, произошла интересная история.
Сначала внизу показалось темное пятнышко. Затем, мы увидели на дороге чью-то фигуру, медленно направляющуюся в нашу сторону. Темнота не позволяла нам узнать гостя, пока он не приблизился вплотную.
Это оказалась Гульзина…
Визит этой девушки в такой неурочный час вызвал тревогу: а вдруг она принесла печальное известие. Пуще меня приход Гульзины поразил Мунарбека. Он уставился на нее с открытым от удивления ртом.
- Что случилось, Гульзина? В ауле все в порядке? – забегал я, встречая гостью.
- Тихо, все живы-здоровы…. Вы, верно, что-то не то подумали?
Гульзина ощетинилась, видя, как мы всполошились.
- Ничего, очень хорошо, что ты пришла, – улаживал я неловкую ситуацию, стараясь не обнаружить радости.
- Я приехала к вам петь песни…
- Петь песни, говоришь?
- Я хотела приобщить вас к духовному миру Абая.
«Вот те раз! Что это значит? Это же чисто книжные слова. Как бы эта молодка не оказалась мечтательницей и романтиком, почище меня!»
- Я ведь педагог, а вы – человек искусства. Поэтому я хотела прочесть вам часовую лекцию и познакомить с гением.
Ничего не понимая, я продолжал кивать головой.
- Как вы приехали? Как перешли реку? – обрел, наконец, дар речи Мунарбек и встрял в наш разговор.
- Ты же знаешь Жомарта, молодой учитель, что в прошлом году пришел в школу…, вот он привез на своей машине. Через час заберет обратно, - сказала Гульзина и взглянула на меня:
- Если вы не против, то одевайтесь, идем!
Я даже не спросил - куда, когда девушка приглашает, какие тут вопросы…
Вошел в дом, кое-как оделся и, как верблюжонок за матерью, побрел за Гульзиной.
Мунарбек заморгал: «Ага, может, мне вернуться в аул?» Ах, хитрый черт, а ведь говорил, что сегодня останется, будет со мной. А теперь вишь, прикинулся невинной овечкой! Все-таки с понятием парень.
Все окрест было залито молочным светом полной луны.
Гульзина взяла меня под руку и направилась в сторону реки. Рассказывая о выходках ребят в школе, смешные истории из жизни коллег, она привела меня к водоразделу. Большая часть своенравной Бухтармы уходила в уступ противоположных гор. Этот же поток представлял собой маленькую речку. Она медленно, с бормотанием, несла свои воды. В одном ровном месте эта речка разлилась и образовала озерцо. Мы остановились на берегу этого озера.
- Вот. Это Каскабулак, можно сказать, родина Абая. Луна взошла, ветра нет, именно такая ночь нам нужна! – сказала она и запела «Безветренной ночью светлая луна».
Колеблющийся свет луны проложил на водной глади белую дорожку.
Поверхность воды набухала мелкими волнами, они набегали на берег, шурша галькой. И чудилось, будто волнующаяся зеркальная гладь озера в этот момент вторит Гульзине. Да и гул Бухтармы внизу тоже добавлял к песне свой аккорд. Осенние деревья, еще не успевшие сбросить наряд, шептались промеж себя. Все эти явления я видел глазами, слышал ушами, воспринимал сердцем. Страстно всматривался я в водную гладь, любовался золотистой лунной дорожкой. Мне хотелось встать на эту дорожку, идти и идти по ней в ночную темь.
Следующей Гульзина тем же задушевным голосом спела «Песню Татьяны». Следом разливисто, широко прозвучала «Шлю тебе привет, тонкобровая». Пропев песню «Ты – зрачок глаз моих», она утихла.
Приятный, проникающий в самые сокровенные уголки души, голос Гульзины ласково коснулся меня и взволновал все мое существо.
Кто бы мог подумать, что песни, спетые под покровом лунной ночи, могут иметь такое воздействие. Они вернули меня в мою далекую юность и заставили вновь переживать томление юного сердца! Подлинное чувство.... Как же удивительна жизнь, как прекрасен мир. Алтайская ночь преобразилась неузнаваемо, и ближние леса, и дальняя Матайская равнина как будто были залиты особым сиянием.
Когда Гульзина закончила петь, я прижал ее к груди и уткнулся носом в пахнущие солнцем волосы. Я стоял так некоторое время, изнемогая от переполнявших чувств. Еще немного и готов был потянуться к губам, из которых только что лились чарующие песни. Но девушка, видимо, не ожидала такой выходки от меня, она высвободила мои руки и вырвалась из объятий.
Я рванулся к ней и снова обнял.
- Перестаньте! – сказала Гульзина, - Что это с вами? Я приехала сюда из уважания к вам.
- И я тоже...
О боже, что это за лепет?! Что с моим языком, куда подевались все слова? Ой, недотепа!
Освободившись из моих объятий, Гульзина отошла в сторону.
Что поделаешь, жизнь и меня чему-то научила. Робость и застенчивость, которые я проявил когда-то в отношениях с Салимой, навсегда канули в прошлое. Много раз через других девушек и женщин я брал реванш за неудачу с Салимой, Ни о чем не сожалею! Вот и сейчас я пытался проявить смелость, однако мои несдержанные движения оказались здесь неуместными.
С переправы донесся сигнал машины.
Мое недавнее поведение подействовало на нас обоих удручающе. Мы молчали. И в этом молчании направились в сторону переправы.
Послышался трубящий рев марала. Где-то близко, с того берега реки либо со склонов противоположных гор. Чуть позже, издалека, с реки Курти словно в ответ долетел ослабленный расстоянием крик другого. Вероятно, на Алтае был в разгаре брачный сезон.
- Спасибо, Гульзина! – сказал я, пытаясь склеить оборванный разговор. Голос вышел приглушенно, я кашлянул.
- Ну как, песни понравились?
- Еще как понравились!
- Чтобы ученики смогли лучше понять и усвоить материал, мы иногда вот так поем песни. И стихи читаем, и наглядные пособия применяем.
- Ты, Гульзина, хороший учитель. Я сегодня был твоим примерным учеником. И в самом деле, я будто стал ближе к духу Абая. Честно.... За это тебе спасибо!
- Я заметила, песни на вас действуют магически.
- Моя любовь к песням зависит от певца....
Гульзина повернулась и прямо посмотрела на меня. Я шел серьезный, делая вид, что не заметил ее взгляда.
- Абай-ата сказал ведь: «Если любишь песню, люби, как я». – проговорил я с тем же видом. – Конечно, тут нам с Абаем не тягаться. Но на втором месте после него я смею числить себя.
- Ваше мнение о самом себе весьма неплохое, - сказала Гульзина, весело рассмеявшись.
- Я, оказывается, давно не видел такой лунной ночи. А если и видел, то не испытывал таких чувств.
- Посмотрите на луну. Какая она красивая... Говорят, что в луне есть красноватый оттенок. Вы можете это видеть?
- Художники знают об этом издавна.
Ответ мой получился, видно, несколько назидательным. Гульзина замолчала.
- Я был на Каскабулаке, - сказал я, пытаясь исправить неловкость.
- Ну, дальше..., продолжайте.
- Ну вот, я не смог разглядеть там водную гладь, на которой бы в безветренную ночь колебался лунный свет. Лишь с плачем текущий одинокий ручей. Разливавшиеся во времена Абая озера и реки обмелели.
- Это всё, наверное, влияние полигона? – спросила Гульзина.
В знак согласия я легонько положил руку на ее плечи и обнял.
С переправы снова донесся сигнал машины.
062.
Я опять потерял счет дням. Пожалуй, не было смысла считать их. Когда надоест отдыхать, соберу свои причиндалы и рвану в город. А пока я был занят сбором творческого материла, делал рисунки, размышлял над эскизами и восстанавливал силы.
Вчера, проводив Гульзину, я пришел домой и тут же уснул. И сегодня встал пораньше. Не стал будить Мунарбека, осторожно вышел на веранду.
С тех пор, как приехал на Тайпак, я открыл для себя, что встречать рассвет в горном ущелье – это сплошное удовольствие. И сегодня то же самое. Пожалуй, сегодняшнее утро было особенным. Да и утро, и ночь, и даже день на Алтае для меня были особенны. Честное слово!
Вон лента реки вся в зыбком, как серый пух, тумане, горы опоясаны сизоватыми тучами. Первые солнечные лучи только-только начали проглядывать из-за пиков. Речная долина покоилась в полудреме, в загадочном состоянии, какое бывает в волшебных сказках.
Я обычно всегда находил возможность, чтобы не упустить такие пограничные мгновения. Какая бы ни стояла погода, солнечный ли день, дождливый ли, я сидел, не шелохнувшись, глядя во все глаза и впитывая любую мелочь. Порой я огорчался, считая такие часы пустым времяпрепровождением. Однако они придавали моей сероватой жизни некий облик, поднимали настроение. Вряд ли можно назвать впустую прожитым день, подаривший тебе встречу с утренней зарей, искупавший в вечерних лучах солнца, подставивший твое лицо дыханию освежающего ветерка, и тем самым сделавший тебя счастливым. Ведь сама человеческая жизнь слагается из миллионов таких мгновений.
Наверняка эти вот светлые периоды и наполняют ее смыслом, делают нарядной.
063.
Я безмятежно сидел на веранде, набрасывая карандашом какие-то композиции на белую бумагу. Мунарбек отпросился и уехал в аул. Около полудня на дороге внизу показалась чья-то фигура. Женщина.... Это опять была Гульзина. Я удивился ее появлению и радостно выбежал навстречу.Гульзина шла, вся согнувшись под тяжестью поклажи: за спиной у нее был коржын, в руке – какая-то сумка.
- Давай мне, - сказал я и снял коржын. Он оказался тяжеленным, точно внутри были камни.
- Ну надо же, как ты все это несешь из аула?
- Нет, только вон от той сосновой рощицы. Вчерашний братец мой Жомарт довез на своей машине.
- Раз он на машине, что же не довез до дому?
- Вас постеснялся, уехал, чтобы не попасться на глаза.
Гульзина сварила пельмени и привезла их в алюминиевой кастрюле. В отдельном узелке были самса и баурсаки.
- Зачем ты беспокоилась? В этом доме хватает еды.
- Это я специально приготовила для вас своими руками.
«Своими руками» говорит, «специально для вас», говорит.... От этих слов сердце, будь оно неладно, растаяло, как масло.
064.
Было время обеда, поэтому я до отвала наелся принесенной Гульзиной еды, и мы вышли с ней на веранду. Сели вдвоем на подвешенную скамейку и долго сидели, взявшись за руки. Я принес из дому одеяло, накрыл им Гульзину, укутал ноги. Все же, что ни говори, осень есть осень, могла простудиться.
- Вы живете в диком месте. Поэтому я, не опасаясь никого, не боясь сплетен, приехала к вам специально, - проговорила молодая женщина.
Опять эти слова: «к вам», «специально приехала»... Для человека с соображением – теплые слова, проникающие в сердце. Стезя женщины узка, что тут еще можно сказать? Словом, девушка давала знать о своих чувствах, хотя открыто и не признавалась в них. И руки позволила взять, и локоть - погладить, слава богу, обнадежила меня, грешного. В носу у меня пощипывало, глаза улыбались, сердце колотилось...
-Спасибо! – сказал я и, притянув девушку, поцеловал в лоб.
На некоторое время установилось молчание. Мне перевалило за сорок, и раньше я ощущал себя уже клонящимся, подобно солнцу, к своему закату. А теперь, только посмотрите, встреча с этой девушкой осветила мой день новым сиянием.Видно было, что молодая женщина расположена ко мне, намерений своих не скрывала, так что же я не решаюсь, пилил я себя.
- Гульзина, - сказал я, - Гульзина..., что же мне сказать тебе. Я и вправду сильно чувствую свое одиночество.
- Талантливые люди всегда одинокие, - сказала Гульзина по-русски.
- Возможно, это верно..., но именно сейчас я хотел бы тебе сказать кое-что, боюсь, что будет выглядеть, как обман. И ясно, что такая девушка, как ты, не примет лжи.
- Если это красивая ложь, почему бы не принять? – произнесла Гульзина улыбчиво. – Умение преподнести обман как правду, скрыть хромоту и ущербность – это большое искусство. За красивым обманом может лежать глубокая разумность.
Эти слова ее привели меня в замешательство, я потерял нить своих мыслей.
Мне ничего не оставалось, как сменить тему и перейти снова к делам художников.
- Взять Леонардо Да Винчи.... Ведь он – великий художник, написал портрет своей любимой девушки Моны Лизы, – начал я, - Может и мне написать твой портрет?
Гульзина вспыхнула и одобрительно повела глазами.
- Нарисуйте, - сказала она, - я не против... Пусть и мое имя останется в веках, как имя Моны Лизы.
- Правда, я не писал портретов. Я ведь пейзажист. Нет, иногда и портретами балуюсь, и жанровые картины писал. Но...
Язык мой вновь подвел меня, я запнулся. Потом махнул рукой и принялся устанавливать этюдник.
Я посадил Гульзину так, чтобы лицо ее выгодно смотрелось в игре света и теней. Затем начал водить углем по белому картону.
Со стороны гор протрубил марал.
065.
Небо было ясным, кругом разлита приятная прохлада. В воздухе ощущалось легкое дуновение. Мохнатые угрюмые кедры стояли в мрачном безмолвии. Березы и тополя шелестели сиротливыми остатками листвы.
На равнине у подножия какой-то уазик пылил наискосок по дороге. Похоже, ехал сверху, со стороны Шындыгатая. Не пограничники ли? Да, наверняка они.... А так, в эту глухомань просто так никто не забредет, разве что какой-нибудь чудак.
«Уазик» на полном ходу остановился у самой переправы. Неизвестно почему, там он простоял некоторое время. Может быть, оробели, испугались, что переправу не одолеют? Тогда водитель, должно быть, неопытный, рохля какой-нибудь. Потому что аульные машины проезжают тут, грохоча, каждый божий день.
Вскоре «уазик» немного попятился. Косо развернулся и прямиком направился к моему кордону.
От неожиданности такого оборота у меня екнуло в боку. То исчезая, то показываясь вновь, машина мчалась к нашему дому.
«Господи, кого это еще принесло?».
Я невольно поднялся с насиженного места, где грелся под лучами солнца.
«Уазик», громко гудя мотором, подъехал, лихо развернулся и, взвизгнув, остановился неподалеку.
Наклонив машину весом тела так, что, казалось, она перевернется, из нее вышел чернявый великан с бычьей шеей.
На голове его была шляпа, обвисавшая со всех сторон. Одет он был в брезентовую куртку, на ногах – кирзовые сапоги. Похож на усталого путника, возвращавшегося из дальнего похода или путешествия.
Я встретил его у самой машины, поздоровался за руку. Здесь же услужливо крутился молодой парень, видимо, помощник.
- Жаке, мне сказали, что ты здесь находишься, и я нарочно завернул.
Только теперь я узнал его, это был районный аким по имени Жумакан. Мы встречались раньше, когда он бывал по долгу службы в Алматы. Помню, даже однажды обедали в гостинице. Об этом человеке у меня остались хорошие воспоминания, открытый старший товарищ с громоподобным голосом.
Тяжело волоча ноги и припадая на одну, Жумакан грузно опустился на пень в сторонке. С трудом выпрямил онемевшие колени, раза три помахал ногами и медленно поднялся.
- Ехал вон там, увидел дым и спрашиваю: «Кто тут живет, в этом глухом месте?». Говорят: «Приезжий художник». «Какой это художник? Не Жанимханом ли его зовут?» - говорю. «Да, он», – кивает мне Оралжан. «Ойбай, тогда стой, поворачивай – и гони туда», - говорю. Вот так я и приехал, Жаке…. Посчитал, что нехорошо будет, если проеду мимо.
- Спасибо, Жумеке, да я тут от нечего делать… баклуши бью, отдыхаю, так сказать.
- Для творческого человека даже отдых – работа. Не так ли? Почему бы завтра не увидеть свет великим картинам про Алтай?
- Стараемся…
Жумакан прихватил бесформенными толстыми губами сигарету, не спеша прикурил и пошел пускать клубы дыма. Потом помахал руками, развеивая дым, и приступил к беседе.
Разделавшись с осенними работами, он взял отпуск и на несколько дней поехал в Шанген. Сейчас возвращался оттуда. Я слышал, что Шанген – большое высокогорное озеро, кишащее рыбой. Туда не пропускают всех подряд, требуется специальное разрешение. Пограничный район, можно сказать, край земли. Ну а районному акиму, как водится, везде дороги открыты….
- Отдохнули. Порыбачили, - сказал Жумакан., - В последнее время нервы совсем истощились, усталость одолела. Да вот, слава богу, получил заряд бодрости.
- Правильно, очень хорошо.
- Эй, Оралжан, из той рыбы приготовь нам что-нибудь, пусть Жанимхан тоже попробует.
- Уху сварить или пожарить?
- Уху варить долго, лучше пожарь.
При них была и вся кухонная утварь. Оралжан с громыханьем и звоном уже вытаскивал ее из машины.
- Давай немного пройдемся., - предложил Жумакан. – Дорога на Шанген – не приведи господь..., горы и пригорки, машина растрясла. Все тело побитое, болею.
066.
Сперва мы с Жумаканом двинулись вдоль дороги к переправе. Потом повернули налево и, спустившись, стали прогуливаться по холмистой долине реки.
Я был молчаливым слушателем. Жумакан шел, размахивая руками и говоря без умолку. Сначала он прорекламировал районные успехи нынешнего года, щедро сдобрив их цифрами. После этого сделал краткий экскурс в историю этого края. Затем, видно, вспомнив, что спутнику его дела нет до сельского хозяйства, и что он – представитель культуры, пространно остановился на каждом из граждан, которые являлись гордостью района.
- Один из них – ты! – заключил он и похлопал меня по спине своей широченной ладонью.
Опять пошел, продолжая разговор и дымя сигаретой, да вдруг остановился. Я повернулся к нему и вижу – обращенное к солнцу лицо его поехало, сморщилось. «Апчху-у!»- чихнул Жумакан, разбрызгивая вокруг слюни. Знатный получился чих, коня бы вспугнул. У огромного человека и чих, оказывается, зычный.
- Прости, от этих теплых лучей солнца защекотало в носу... – сказал Жумакан, с силой, точно хотел оторвать, вытирая нос платком.
Я давно заметил, что на том берегу, забросив в реку удочку, стоял некто. Похоже, его испугал чих Жумеке. Он быстро оглянулся на нас, торопливо собрал удочку и дал дёру. Натянул кепочку на самые глаза, поди, чтоб не узнали, и понесся, скрываясь за деревьями.
Я засмеялся:
- Вашего чиха вон тот человек испугался и убежал!
- И пусть боится.... Ему есть, отчего меня бояться.
- Выходит, вы его знаете?
- Еще как знаю.... Никчемный человечишка, трутень. Работать не хочет, напьется самогону и болтается по улицам.
- А где находит средства?
- Средства, говоришь? Есть у него четверо детей, вот «пособие» на них и ждет он из месяца в месяц. Дети бегают голодные. И одежды приличной у них нет, чтобы в школу пойти. В ауле без скота не прокормишься. У кого есть скот, тот и хозяин положения.... Хоть бы огород посадил или корову какую завел. Но за огородом уход нужен, картошку надо полоть-окучивать. Для коровы и баранов летом надо сена накосить, а не то задубеют шестимесячной алтайской зимой. Нет, этот тип не может такой работой заниматься. Бежит от нее, будто грязь прилипнет. В свое время институт закончил, считает себя интеллигентом, белоручка.
А если б ты знал, как он морочит голову аульчанам! Остер на язык, фактами бьет. Послушашь его, и подумаешь, не он ли тут самый умный. Распишет тебе все внутренние и внешние проблемы не только аула и района, а всего Казахстана, точно он один в ответе за них. В том, что он не хочет работать, сажать картошку и выращивать скот, по нему виновато правительство. И президента готов обвинить в том, что семья живет впроголодь.
- Эу, да ведь так он семью доведет до мора?
- Нет, до этого не доводит. В тот день, когда получает «пособие», покупает мешок муки, мешок макарон, сахар и чай. Потом весь месяц они питаются отварными макаронами... В последние годы в ауле завелись вот такие лодыри, у которых нет ни грамма совести и чести.
- Ну хоть бы жена работала что ли?
- Это по поговорке: «какова сестра, таков и зять», жена его – еще хуже, тоже лентяйка. И завистливая – вусмерть. Накатала зявление на одного аульного жителя, который, трудясь в поте лица, стал налаживать жизнь и собрал кое-какие сбережения. Этим заявлением не только аул, а весь район на ноги подняла.... Воруют мелкий скот у соседей. В прошлом году спалили сено у Бейсена. Он как раз создал частное крестьянское хозяйство и только начал получать доход.
- Что ж вы не заявили участковому и не наказали их?
- Если не поймал с поличным, то ничего не сделаешь. Все мы знаем, что это они сожгли сено, и аксакалов приглашали вразумить их, и полицию – припугнуть. Толку нет.... Образованный тип, на драной козе не подъедешь, всё отрицает.
- Ну тогда у него есть отчего вас бояться.
Я снова бросил взгляд в сторону реки. Вот проныра, уже успел перевалить за косогор.
Мы сделали большой круг по равнинной долине и повернули назад.
067.
Жумакан не уставал увлеченно сыпать рассказами, я не уставал слушать.
- Писаки достали, - сказал он, раскуривая сигарету. – Не то, что раньше, все грамотные, как коснется писанины, - камня на камне не оставят. Им ничего не стоит натравить людей друг на друга. Как выедешь из города, по всей дороге – кафе и рестораны, гостиницы и дома отдыха. Ты и сам заметил, верно? Недавно они накатали заявление на областное начальство самому Президенту: «Всю землю раздают другим народам, казахи не могут распорядиться собственной землей». Приехала проверка, выяснилось, что ни от одного казаха не поступало прошение на землю в целях какого-нибудь бизнеса. Вот и получается, что братья-казахи видят только готовое, а, увидев, завистью исходят. До этого же и в голову им не придет! Мало кто хотел бы чем-то заняться, большинство спят на ходу. Это въевшаяся в самые кости наша медлительность. Или халатность, не знаю... Словом, повальная болезнь аульных казахов.
- Да-а, немало проблем вы подняли, - сказал я.
- Встретился с тобой и решил поделиться сокровенным, все-таки человек ты знающий, образованный. А так, ведь из кожи вон лезем, чтоб им хорошо жилось, простым казахам...
Немного поднявшись, мы вышли на лесную поляну, где остались развалины чьего-то дома и разоренное подворье. Боковина запертого сарая разрушилась, и из-за него доносилось зловоние.
- Это когда-то была заимка Даушена, - сказал Жумакан. – В свое время в этом месте была богатая пастбищами и сочной травой земля. А теперь смотри, все покосилось, разрушилось.... Прямо жалко становится.
- Кто такой Даушен?
- Он был прославленным чабаном. В то время я был директором совхоза. Если хочешь послушать, я могу тебе рассказать интересную историю как раз об этом месте.
- Расскажите, конечно!
Видно, вспомнив что-то, Жумакан засмеялся.
- Говорят: «В доме, где дети, краденого не скроешь»... Было время окота скота. Зима выдалась холодной, к тому же тянулась, как жвачка. Трудная была пора, сена и кормов не хватало, случался падёж. Как-то я сел в машину и, никого не предупредив, один отправился к чабанам. Ну и к Даушену этому прибыл. «Как идет окот?», - спрашиваю. «Хорошо», - говорит. «Убытков много?», - говорю. «Да нет, что вы, убытков нет», - отвечает он твердо. Ладно, зима тяжелая, а у Даушена убытков нет, я остался доволен. «Прозимуешь без убытков, сделаю тебя примером для всего района, премиальные лопатой будешь грести», - хлопаю его по спине. Тут один из бегавших вокруг ребят потянул меня за рукав. «Я скажу вам один секрет», - говорит. Мне стало интересно, и я подставил ухо. И вот что он сказал мне: «За баней лежат ягнята». Я – мигом к бане за холмом, а там в яме горой лежат мертвые ягнята.
- Тот самый мальчик, что раскрыл мне секрет, - это Оралжан, мой помощник, - сказал Жумакан и расхохотался.
В этот момент послышался голос Оралжана, звавшего нас на обед.
068.
Рыба, пожаренная расторопным помощником, просто таяла во рту.
По словам Жумакана, эта рыба под названием «хариус» была деликатесом царского стола. «Поэтому, - произнес аким, - под такую знатную закуску необходимо выпить». И он послал к машине за бутылкой. Беседуя за дастарханом, мы опрокинули несколько рюмок.
- Довольно, - сказал Жумакан. – Больше здоровье не позволяет. Нет уж тех дней, когда всю ночь до утра могли квасить.
Сказав так, Жумекен ополоснул руки и собрался к отъезду.
- Обратите внимание, не земля, сегодня вот этот ваш народ стареет, - произнес он, шаря по карманам куртки. – Вся молодежь бежит в город. Как окончат школу, все подаются на учебу. Все хотят поступить в университет, все хотят стать начальниками. Сейчас поступить в вуз – не такая уж проблема.... Если есть деньги, уж как-нибудь найдешь, где обучить ребенка. Но какое он там получит образование? Казахи не придают этому значения. А простую работу кто будет делать? Кто аул будет поднимать? Скот кто будет пасти? Коров кто будет доить? Чем быть недоделанным специалистом, лучше быть хорошим рабочим, жаль, что наши казахи до сих пор этого не понимают.
Жумакан с сожалением покачал головой и прогремел:
- Эй, Оралжан, налей-ка нам на посошок!
069.
Благополучно проводив районного акима, я прилег отдохнуть. Тут снова послышался гул машины. «Наверное, Жумакан что-то забыл», - решил я и вышел из дому.
Это оказались пограничники, приехавшие проверять документы. Четверо солдат и один офицер. «Мы в курсе, что вы отдыхаете здесь», - сказал молодой капитан, поздоровавшись со мной, - но все-таки пограничный район, приехали проверить, нет ли кого постороннего».
- Если увидите подозрительных лиц поблизости, постарайтесь срочно сообщить нам. Да и самим вам следует быть осторожным, - загадочно предупредил он.
Эти слова озадачили меня и вселили сомнение.
- А в чем, собственно, дело? Все спокойно?
Начальник наряда взял меня под руку и увел в сторону.
- В том-то и дело, что неспокойно, - сказал он, оглядываясь и понижая голос. – Из тюрьмы сбежали два рецидивиста. Судя по сообщению, держат курс на долину Бухтармы.
Я подумал было, что он шутит, но заметил, что в бледном облике капитана сквозила усталость.
- Хорошо! – сказал я, - Понял.
Но как пограничникам посылать сообщение, - об этом я забыл спросить.
070.
Неприятная новость от пограничников расстроила меня, и, накинув на плечи куртку, я прогулялся вдоль реки.
Вернулся, а перед домом стоит еще один «уазик». По сравнению с теми, что были раньше, старая модель, краска облезла, кузов местами помялся. Короче говоря, ветхий транпорт, много раз битый, много раз бывший на ремонте, немало на своем веку повидавший.
«Кто же это приехал?»
Под березой за домом сидела, что-то записывая, молоденькая девушка.
Завидев меня, девушка вскочила с места и пошла мне навстречу. Она учтиво поздоровалась и принесла извинения.
- Вы же художник Жанимхан? – спросила она, смущаясь.
- Да. Я как раз тот самый человек. Сама-то кто будешь?
- Я корреспондент районной газеты, зовут меня Галия.
Корреспондентка поклонилась и снова чинно протянула руку.
- Корреспондент, говоришь? Я думал, ты ученица.
- Я заочно учусь в КазГУ.
- На каком курсе?
- На третьем...
- Еще и половины не одолела. Такая молоденькая, почему не учишься очно?
- Отца нет, мать больна, не смогла уехать из аула, - проговорила девушка с грустью и опустила глаза.
- А где отец?
Девушка ответила не сразу, помялась и сообщила, что отец бросил их, когда она была еще ребенком, и ушел к другой женщине.
Пришел мой черед смутиться своему бестактному вопросу:
- Прости, детка!
Раз она – солидная корреспондентка газеты, я приготовился для обстоятельной беседы и собрался было присесть, как Галия показала в сторону дома:
-Агай, давайте сначала пойдем к тем бабушке и дедушке.
-К бабушке и дедушке, говоришь?
-Да, агай, они специально к вам приехали.
- Ойбу, душа моя, почему не предупредила, как-то неудобно получилось...
Повернув к девушке, сидящей под березой, я ведь сразу ушел на задворки дома. Только теперь перед моими глазами предстали старуха и старик, сидевшие на веранде. Старик, раскинув ноги, расположился на пороге. Старуха раскачивалась на моей подвесной скамейке.
«Кто это такие, зачем меня ищут? – удивлялся я. - Может быть, родителей моих знали?»
Вначале я поздоровался с аксакалом, который сидел, нахохлившись, как беркут по пятому году. Он оказался голенастым и высоким, словно тополь. Затем я подошел к качавшейся старухе и протянул ей обе руки. Старуха была незрячей.
- Это тот самый мальчик? – спросила она громко.
- Да, бабушка, это тот человек, которого вы ищете. – отвечала девушка вместо меня.
Старуха наклонила мою голову, погладила волосы и понюхала в темя.
- Счастья тебе, милый, - сказала она и кончиком платка отерла глаза. – Услышав, что ты прибыл из Алматы, прицепилась к этой девочке и приехала, сын мой.... У меня к тебе дело есть!
- Что вы хотели, апа, говорите! – произнес я, повысив голос.
- Слышу, слышу, милый, - закивала старуха, - есть у меня что сказать, но скажу тебе одному.
Галия с улыбкой взглянула на нее и ушла с веранды. Видимо, старик тоже услышал громкий голос старухи. Ухмыльнувшись, он тоже начал со скрипом вставать с места. Поднявшись, старик, ступая вперевалку, скрылся за домом.
- Мы остались одни, апа, говорите.
- Если чужой кто услышит, не поверит и сделает посмешищем. Поэтому только тебе хочу сказать...
- Говорите, я – весь внимание.
- Начну все сначала.... Слушай, милый. Не достигнув тридцати лет, я осталась вдовой с четырьмя детьми. Муж мой ушел на войну, да так и не вернулся. Летом сорок третьего мы получили листок «черной бумаги». Не известно, жив ли, умер ли. Вот в этом неведении прошло пятьдесят восемь лет. У меня все учтено, все посчитано. И вот думаю, как же это живой человек может исчезнуть? Он же не испарился? Ведь если умер, то должна остаться могила? И дети, и все остальные потеряли надежду, но я верила, что он вернется домой. Я много ждала. Вот думаю, кончится военное лихолетье, и он появится, как ясно солнышко. Ждала я ждала, но и у меня нервы сдали, терпение кончилось, надежда угасла. После этого и я стала верить в то, что этот несчастный умер.... Так я смирилась с волей Аллаха и как будто признала ее. Но в последние годы по радио и по телевизору совсем другие разговоры пошли, иные вещи слышу. Те пленные, оказывается, попадают заграницу и не возвращаются. Назырхан, это я про мужа говорю, был горячим и шустрым парнем. Да и в девицах и бабах знал толк. Я-то кормильца хорошо знаю. Думаю, радио не врет, он попал в плен и где-то за рубежом живет. Сердце мое чует. Ну и, само собой, семьей обзавелся. Может, стыдно ему и потому мучается, домой не возвращается? Я – старуха, он – старик, чего уж теперь стыдиться? Ему надо вернуться. Пусть и детей с собой захватит. Детей много не бывает. Встретим честь по чести.
- Апа, а мне что вы хотите поручить?
- Да что поручать.... Сначала сделай запрос и помоги мне разыскать Назырхана. Назырхан, сын Байназара.... Потом скажи, чтоб вернулся на родину! А не то, помрет, старый хрыч, на чужбине, и будут кости его гнить там...
- Апа, сколько ему лет?
Старуха, видать, устала от длинной речи и еле-еле выговорила, дрожа подбородком:
- Кормилец был на два года старше меня.
- Ойбу-у, так ему же больше девяноста?
- Нет, восемьдесят девять должно быть.... Мне сейчас ровно восемьдесят семь.
- Вероятно, он уже ушел из жизни?
- Нет, он не из таких, чтобы умереть. Здоровье у него было крепкое, верблюда мог повалить. А вот я по сравнению с ним была хрупкой, ровно ивовая веточка. И вот я, слабая, уже к девяноста приближаюсь. С чего это ему умирать?
Это был пустой разговор. Я попал в затруднительное положение, не зная, какой довод привести старой женщине, которая с такой надеждой приехала ко мне.
Но как бы я ни затруднялся, надо было не отказывая старухе и не раня ее и без того больное сердце, достойно выйти из этой щепетильной ситуации. Я быстро взял карандаш и бумагу и сделал вид, что погрузился в глубокие думы. Еще раз скрупулезно выведал данные Назырхана-ата, который вот уже «пятьдесят восемь лет не возвращался на родину» и тщательно записал на листке.
- И меня запиши, - сказала старуха, которая, хоть и была слепа, а поняла, чем я занят. – Живу в ауле Каменка, зовут Сакыпжамал, фамилия Назырканова.
Я поднял брови, думая, что ослышался и уставился на старуху:
- Вы что, на имя мужа записались?
- В те времена кто на это смотрел.... Русская девушка спросила, как фамилия. А мне откуда знать, говорю: «Назыркана жена», вот она и написала.
Старуха пожаловалась на усталость, я взял ее под руку, завел в комнату и уложил на кровать.
А сам пошел вокруг дома искать пропавшего старика.
071.
Аксакал представился Байгалием.
Он был старожилом нижнего аула Аршаты. Худой человек с выпирающим кадыком и бородкой клинышком, можно сказать, кожа да кости. При любых движениях тело его поскрипывало, как высохшее дерево.
«В этом ауле я – единственный ветеран войны из тех, кто остался в живых», – сообщил он. После войны старик всю жизнь работал лесником. И все эти леса и горы знал, как свои пять пальцев. Услышав, что из Алматы приехал «большой начальник», специально выехал сюда, чтобы повидаться со мной…
- Я многое повидал на своем веку, прошел огонь и воду, дорогой, у меня есть к тебе разговор, - произнес он, собираясь с мыслями, точно хотел сообщить мне некую тайну.
- Аксакал, я не начальник, - пытался я увильнуть, но он пригвоздил меня желтоватыми глазами и посмотрел испытующе. Я вздрогнул, непростой, видать, человек. Проницательный старик, умеющий угадывать нутро собеседника по глазам.
- Все, кто приехал из Алматы, для нас – большие начальники. Хоть и не начальники, а все равно люди авторитетные, близкие к верхам, языки у них подвешенные, речь доходчивая. Потому, не перебивая, давай, выслушай меня! – проговорил старец властно, приказным тоном.
Передних зубов у старика не было, он говорил, брызгая слюной и посвистывая.
- Слушаю, ата, - вынужден был я согласиться.
- Неожиданно я оказался в обществе, которое потеряло могущество, и среди людей, которые потеряли совесть, дорогой… - начал старец свой рассказ. – Вырубают деревья Алтая, уничтожают зверьё и птиц. На горных козлов напала зараза по названию «браконьеры». Ради рогов отстреливают только самцов. То, что осталось от браконьеров, таскают заграницу те, что зовутся интурохотниками. Со времени создания Национального парка был наложен запрет. Отстрел разрешался только по лицензии. Но все напрасно, пустые слова, не останавливаются, сынок.
Старец подергал жидкую бороденку. Я кивнул головой, дескать, проблему понял.
- То же касается и оленей с маралами, - тяжело вздохнул старик, - Охотники гоняются за ними и днем и ночью, даже с фонарями. Отбирают и отстреливают только самых крупных самцов с ветвистыми рогами. И нашим, и зарубежным охотникам нужно не мясо марала, не шкура, а исключительно лишь рога…. Они увозят те рога домой на память, вешают в своих домах, похваляются. Вот так в последние годы важенками овладевают трусливые никудышные самцы. Поголовье горных козлов и маралов скудеет, уменьшается. В послевоенное время бывали, говорят, маралы с рогами в двадцать-двадцать две ветви. Я сам собственными глазами видел рога в восемнадцать ветвей. А теперь рога этих животных составляют не больше восьми-девяти ветвей! Если сможешь, милый, посодействуй в этом деле. Донеси мои слова до начальников! Они тоже, наверное, из такого же теста, что и мы, услышат, поймут, примут какое-то решение. Вот с этим я и пришел к тебе.
Аксакал затронул актуальную тему, достойную большого обсуждения. Откуда знать этому человеку, что у меня, простого смертного, нет полномочий решать такую проблему, остановить эти беспорядки. Если я скажу ему об этом, старик разочаруется, потеряет совсем веру в общество. Это действительно, была трудная задача для меня, обычного художника, который никогда прежде не сталкивался с таким глобальным вопросом. Надо было найти выход, чтобы и овцы были целы, и волки сыты…
- Передай там, наверху, чтобы перестали давать лицензии всем подряд. Еще раз повторю, в погоне за деньгами мы довели природу Алтая до истощения. Пусть остановят это! Вот так и передай! Это и есть то дело, по которому я тебя искал, милый.
Я дал понять старому человеку, что непременно исполню его просьбу и при нем записал в тетради все сказанное им.
К счастью, в это время Мунарбек пригласил всех нас к столу. Я обрадовался. Мигом посадил стариков за дастархан, поручил их Мунарбеку, а сам вышел из дому, чтобы дать интервью юной журналистке.
072.
Мы с Галией вольготно расположились под березой на скамейке со спинкой.
- Сейчас ведь время гласности, агай, давайте поговорим начистоту, ничего не скрывая? – умоляюще посмотрела на меня девушка.
- Что тут такого..., давай поговорим! – ответил я.
Галия попросила меня начать рассказ с моей семьи.
Вот неудача! Разговор о семье был самым уязвимым местом для меня, его я всегда избегал. Откуда корреспондентке знать об этом? Огорошила меня первым же вопросом. Вот где я попался, а? Как же мне теперь ответить этой девушке, как выкрутиться?
Ведь условие еще поставила: время гласности, мол, будем откровенны.
Попробую все-таки выразиться поделикатней. Если поймет, постараюсь донести до нее свое жизненное кредо, философию. Никогда прежде мне не приходилось затрагивать мою частную жизнь, давать интервью о ней. Встречаясь с журналистами на выставках, я отделывался общими словами вокруг искусства. Но обычно я не давал им коснуться моей личной жизни, обходя ее и оставляя далеко в стороне.
Но сегодняшнее мое положение было абсолютно иным. Я находился в в самом живописном уголке Алтая, на лоне умиротворенной природы, нежился в объятиях родного края. А раз так, то чего я стесняюсь, от чего пытаюсь убежать?
Дай-ка я тоже расскажу откровенно о себе, изолью душу. Ну, держись, моя сестричка! Взялась за гуж, не говори, что не дюжа...
Перво-наперво, чтобы стать хорошим художником, надо любить жизнь всем существом. И вот этому любимому делу требуется отдать всего себя безраздельно, не оглядываясь на семью и все, что связано с ней. Я так и поступил..., возжаждал вершин искусства, несмотря на все невзгоды и страдания этого пути. Мне хотелось поднять на качественно-высокий уровень казахское изобразительное искусство. Следуя образцам мировых танденций, не пойти на поводу у них, а максимально внедрить в отечественное художество элементы национальных традиций, выявить и повсеместно показать ценности нашего бытия, - вот что я поставил своей целью. Я желал открыть новые, свежие возможности изображения. Найдя национальную краску и орнамент профессионального искусства, мечтал прославиться на весь подлунный мир, купаться в славе и почете моего народа. Усердие мое было велико, познаний – достаточно. На этом поприще я добился кое-каких достижений. Однако судьба послала мне лишения, я сбился с пути. И долго томился, не находя желанного идеала.
Соперничество в искусстве, несправедливость в жизни сильно потрепали мои нервы, обесточили меня, растоптали дух. Оказалось, что у меня тонкая натура, и я не создан для борьбы и противостояния. Я поддался пессимистическому чувству. Понял, что цель моя слишком высока. Осознал, что на пути к вожделенной мечте мои способности и мой талант не могут себя выразить в полной мере.
- Получается, что мечта ваша не осуществилась?
- Сказать, что не осуществилась, неверно.... Я с детства мечтал стать художником и стал им. Окончил Ленинградскую художественную академию, до которой многим не дотянуться. Я одаренный художник, но еще не достиг желанных высот. Поэтому я до сих пор на пути к поставленной цели.
- А мы вас считаем большим художником.
- Спасибо.... Возможно, для земляков я – большой художник. А вот каково мое место в большом искусстве? В этом весь вопрос, сестрица.
- В каком состоянии вы рисуете свои картины? У вас всегда есть вдохновение?
- Я тебя поправлю: картины не «рисуют», а «пишут».... Мне нравится работать, когда никого нет, наедине с собой и своими мыслями. Но не скажу, что у всех такая практика. Некоторые мои коллеги не могут работать без алкоголя, без него они становятся скучными, теряют вдохновение. Обязательное условие для них – чтобы на столе мерцала бутылка. Перед началом работы они выпивают по стопке, а после этого – поехали писать свою картину, время от времени прикладываясь к заветной бутылке. А вот мой близкий друг и однокурсник Оскен приступает к работе под симфоническую музыку. Есть и такие художники, которые творят, пританцовывая под грохот рок-музыки.
- Художников на улице можно узнать на расстоянии. Вы из их числа.... В чем тут причина, как вы думаете?
- Причина, говоришь,.. – я слегка замялся и ответил лишь после некоторого раздумья. - Прежде всего, от других людей художников можно отличить по наружности, поэтому они могут показаться странными. Видимо, по этой причине люди с периферии даже пугаются их. Они не выглядят подобно чиновникам приглаженными и застегнутыми на все пуговицы. Обычно они длинноволосы, заросшие щетиной, походка развязная. Многие рассеянны, забывчивы. А некоторые вообще настолько в плену своих замыслов, что замыкаются в собственном мире и не замечают проходящей мимо реальной жизни. Такое существо всегда для стороннего глаза покажется чудаком. У таких чудаков общественность склонна отмечать симптомы шизофрении, психоза и прочих подобных заболеваний. Но на это стараются смотреть снисходительно и прощать, как свойства таланта. По их мнению, от таланта до сумасшествия – один шаг. «Он не смог снести божьего дара, с лихвой выпавшего на его долю, и мозг несчастного не выдержал нагрузки», - делают они заключение. И ведь где-то правы.... У Толстого был странный характер, и Эйнштейн, и Кант, и Гете тоже были странными. Если привести примеры в изобразительной истории – Винсент Ван Гог, Исаак Левитан, Морис Латур, Франциско Гойя – все они были больны, один шизофреник, другой эпилептоид, третий - псих. Я тоже –жертва эпилепсии, вроде них, сестренка.
- Да ладно вам, агай! – засмеялась Галия, закрывая лицо руками.
073.
Весело и непринужденно беседуя с корреспонденткой, я рассказывал ей все, о чем знал, что видел на своем веку, выкладывал перед ней некоторые беспокоившие меня мысли.
- На пути искусства я попутешествовал по Европе, - Лувр, Прадо, Венеция, Ватикан, Эрмитаж, Уффици и Питти.… Заново открыл для себя Гойю. На Боттичелли взглянул по-новому. Склонил голову перед Дюрером. Ван Гога раньше знал лишь по репродукциям и довольствовался этим, а увидев оригиналы, я как бы встретился с ним самим, и познания мои углубились. Обучаясь искусству, мы немало мучились, не понимая содержания классической живописи, ибо нам не преподавали Библию, не подпускали к Евангелию. Позже я понял, что «история ИЗО», которую мы изучали четыре года в казахском училище и пять лет в Ленинградской академии, - это учение, проповедующее христианство. Вот это я позднее и уразумел.
- Мы, казахские художники, ломаем голову в поисках национального колорита, исконно казахской манеры в искусстве, - перешел я в следующее русло беседы, - наша «национальная манера» - это юрта, верблюды. Сколько лет уже, как казахи перебрались из юрт в городские здания? Больше века. Такие картины сейчас для самих казахов, и особенно для молодежи, обратились из «национальной манеры» в экзотику.
- И юрта, и верблюды – это же наша прошлая жизнь, стоит ли избегать ее?
- Правильно... Но суть вот в чем. Зарубежные гости, делегации, сотрудники посольств покупают эти экзотические картины, увозят в Европу и Америку, вывешивают там. Иностранцы, увидев картины, составляют о нас мнение: «А-а, казахи – это народ, который по сей день живет в юртах». И после этого, что папуасы Гвинеи, что казахи, всё одно – туземцы.
- Интересные вы вещи говорите...
- Я не могу относиться равнодушно к этому явлению, которое очень живуче в среде художников и стало уже нормой. И рассказываю тебе, чтобы ты осветила это в своей газете.
- Спасибо вам, агай, за откровенное мнение. Но надо учесть, что наша газета распространяется только в пределах района. Я сомневаюсь, что ее голос дойдет до широких масс, тем более, до ваших коллег.
- Не дойдет и ладно, - улыбнулся я. – Я рассказываю тебе все это по ходу беседы. Вообще, я лично против штампов в жизни. Некоторые мои коллеги в погоне за деньгами в последние годы штампуют картины, будто печатают в типографиях. Так они теряют божий дар, лишаются эстетического вкуса и накопленного годами мастерства. Как можно смотреть на эту проблему безразлично? Вот и поделился я с тобой накопившимся. На мой взгляд, самое худшее на земле – равнодушие. Поэтому надо остерегаться гнусных типов, не высказывающих открыто свои мысли и мнения. От них можно ожидать всякого. Раскрывая свои замыслы лишь наполовину, они ждут, чем все закончится. Вынюхивают, откуда ветер дует. Если и противостоят чему-то, то тоже частично. Это называется «трусость».
- Верно говорите...
- Искусство должно быть высоким. А чтобы оно было таким, его постоянно надо прочищать.
- Как вы его прочистите?
- Этого я и сам не знаю.
- Наверное, все, что вы сказали, правильно, - произнесла Галия. – Я одно знаю.... Искусство приносит в жизнь не только красоту, но иногда поселяет в сердце грусть.
- А ты, милая, случайно, не искусствовед? – растерянно посмотрел я на девушку.
- Нет, я учусь на журналистике, - улыбнулась Галия.
074
В ожидании того, что может приехать Гульзина, день прошел впустую.
Я то и дело выходил на веранду, пристально смотрел на дорогу у подножия, вглядывался в серебрившуюся на солнце переправу. Но не было ни души, не за что зацепиться взгляду. Я вспомнил про начатый мной вчера портрет Гульзины. Он стоял, прислоненный к косяку веранды. Решил не мотаться без дела и, несмотря на отсутствие натурщицы, доделать потртет. Добавив в него несколко штрихов, я оживил образ и подправил фон. В общем, потрет получился неплохо. Я точно уловил характер девушки и сумел передать его с помощью игры света. Сочные губы Гульзины были тронуты загадочной улыбкой, такой же, как у Моны Лизы. Я подумал, что желая довести до совершенства, мог испортить работу, и повесил портрет на один из гвоздей в веранде. Туда-сюда сновавший по своим делам Мунарбек, видимо, не обратил внимания на то, чем я занимаюсь. В какой-то момент, уже проскочив мимо, он вернулся:
- О, это же портрет девушки, - фыркнул он. – Сами нарисовали, что ли?
- Да, Мунар, сам нарисовал...
- Сильно-о! Эй, я как будто видел где-то эту девушку.... Ойбу-у, да ведь это наша Гульзина? Да, Гульзина... вылитая. Вот это да-а, как это у вас так точно получилось! Я вижу, агай, вы были фотографом, а?
-Да, был, – прыснул я.
Наивность Мунарбека развеселила меня.
Я не стал томиться дома и, закинув руки за спину, вышел прогуляться. Не спеша спустился к подножию, прошел по низине вдоль Бухтармы.
Вода в Бухтарме стала прозрачной и осела в свое русло. Я несколько часов гулял по берегу, наслаждаясь покоем осенней природы.
Вернувшись домой, снова ощутил внутри маету, ничего не хотелось. В ожидании Гульзины стемнело, и наступила ночь. Долгожданная гостья так и не явилась, надежда погасла, и мрачное мое настроение слилось с наступившей тьмой ночи.
После ужина Мунарбек отпросился и уехал на рыжей лошади домой.
Беспокойство овладело всем моим существом, и до глубокой ночи меня мучила бессонница.
075.
Гульзина, заставившая меня томиться целые сутки, показалась рано утром вместе с солнцем.
Я гулял по верхнему берегу Таутекели, как кто-то обнял меня сзади с криком:
- Жан-н!
Я вздрогнул. Видимо, из-за однообразного гула реки я не услышал шагов девушки.
- Вчера не смогла уйти с работы. – оправдывалась она, – в школу из райцентра приехала комиссия и шелохнуться не дала. А сегодня суббота, вот Салима-апай и отпустила меня, сказала, что с остальными делами сама справится.
- Салима отпустила, говоришь?
- Да. Поезжай, говорит, проведай агая.
- Надо же, вроде как неплохой человек, а?
- Золотой человек. Всегда меня защищает, никому не даст в обиду.
«Ай да Салима... Разве иначе ты была б не Салимой?».
Взявшись за руки, мы вернулись домой.
В доме, прямо перед почетным местом бегала мышь. Крохотные глазки сверкали, вот неприятная тварь.... Обычно, увидев мышь, женщины от мала до велика, поднимают страшный визг. Гульзина вместо этого схватила угольные щипцы и погналась за непрошеной гостьей. Но за той разве угонишься, промелькнула и исчезла в дырке в углу. Я смеялся от души.
Вчерашнее ожидание вывело меня из терпения и довольно потрепало мне нервы, я едва дожил до сегодняшнего дня. Может быть, поэтому, закрыв дверь на крючок, я обнял Гульзину и, не давая ей опомниться, повалил на кровать.
076.
Небо сегодня было ясным, нет ни облачка, солнце тоже щедро разливало свое осеннее тепло.
Ближе к полудню погода хорошенько нагрелась. Наверное, это и было настоящее бабье лето. Гульзине стало жарко, и, возможно, надоело сидеть дома.
- Что-то становится душно, как бы к вечеру не пошел дождь... – сказала она.
- Может быть, не будем сидеть взаперти, а сходим в горы? – предложил я.
Эта идея понравилась нам обоим, и мы быстро собрались в дорогу.
Обойдя мыс узкого ущелья с южной стороны, мы некоторое время шли по ложбине, а затем по голому склону начали подъем в горы. Здесь я еще не бывал. Разомлевшая природа и в этой местности пребывала в полноте своей зрелости.
Когда мы поднялись на некоторую высоту, нашим глазам открылась лощина напротив. Густые леса Алтая здесь подверглись сильному пожару. Высохшие останки деревьев скалились, как привидения. Если поискать, то среди них можно было найти великолепный материал для скульптора. Вокруг погоревших деревьев – плотная зеленая поросль. Большей частью это нежные ростки берез, реже – зеленые кедры и ели.
Мы одолели голый косогор и забурились в сосняк. Здесь густая трава перемежалась с участками снега. Это был выпавший недавно снег, не растаявший в тени.
- Посмотри на ту большую кошку!
- Какая еще кошка?
Я тоже успел заметить пестрого зверя, который, спрыгнув с дерева, убегал прочь.
- Где ты видела такую крупную кошку с коротким хвостом?
- Не тигр ли?
- В Казахстане последний тигр был убит в 1949 году в окрестностях Балхаша.
- Тогда что же это за животное?
- Рысь! – сказал я.
Гульзина вытаращила глаза и схватила меня за руку.
Мы поднялись на округлую вершину горы. Прошли ее и начали спуск.... И остановились, изумленные открывшимся нашему взору обширному пространству плоскогорья.
- Ба-а, ты посмотри на это! – вскричал я.
Гульзина тоже пришла в восторженное удивление:
- Это же нетронутый первозданный мир! - произнесла она тихо.
И вправду, перед нами лежала некая лощина, тянувшаяся до самого горизонта. Раздольная сказочная страна. Здесь не ступала нога человека, это была дикая обитель зверя и птицы. Я не видел прежде на Алтае просторного и покойного, цветущего жайлау, подобного этому. Оно в корне отличалось от каменистых аршатинских гор. Рельеф земли здесь был иной, со множеством сверкающих зеркальной гладью рек и озер. Дальние вершины и пики, а также торчащие каменные насыпи напоминали следы древних вулканов. Узловатые кудрявые холмы, приняв бесчисленные формы, поворачивались то осенней песочной желтизной, то темной зеленью, то рыжиной. Здесь и там виднелись группы лиственниц.
Еще одна особенность: на склонах холмов густо росли плантации золотого корня. Эта целебная трава, которую днем с огнем не сыщешь, сейчас была в самом соку.
«Вот бы накопать пакет этого корня, да раздать друзьям в Алматы!»
Чем дальше продвигались мы, тем больше нам приходилось удивляться. Только мы взбирались на холм, перед нами открывался во всей красе новый горизонт.
Я украдкой поглядывал на Гульзину. Беусловно, удивительная женщина, способная угодить самому придирчивому вкусу. В очах ее угадывалась некая грусть, эта грусть делала Гульзину загадочной и еще более притягательной.
Я взобрался на огромный валун , раскрыл объятия и закричал, что есть мочи:
- Гульзина-а-а!
Гульзина заливисто смеялась, довольная моей выходкой. И как сладостен был ее смех!
Под сенью кедра неподалеку стоял полуразрушенный деревянный домик. Мы решили поближе рассмотреть строение и направились в ту сторону. Вдруг из зарослей можжевельника выпорхнула какая-то крупная птица. Гульзина пронзительно закричала и спряталась за моей спиной. Птица не улетела далеко, паря, она приблизилась к густой чаще и скрылась в ней.
- Улар! Дикая индейка! – сказал я.
- Улар, говорите? Я в первый раз ее вижу... – глаза Гульзины сверкали, теперь она готова была бежать вслед за птицей.
Сперва мы с интересом обошли вокруг бревенчатого дома. Это была старинная избушка охотника, состоявшая из одной комнатки, приют во время зимней охоты. Крыша ее обвалилась, фундамент погнил, и вся она осела, припала к земле. Такова тайга... Не только дерево или дом, но и человека может сгубить. Каждый шаг, каждое движение необходимо взвешивать, обдумывать, быть чутким и осторожным, как сорока. Просто силой и нахрапом природы не возмешь. Неосмотрительного и наивного горы и тайга могут погубить.
077.
Сокращая путь, мы прошли набухшую холмами равнину под горами. Трава здесь была сочной и еще не совсем потеряла летней зелени. Разве что недавно выпавший снег прибил ее к земле, примял. Но кое-где еще, как брак снегопада, торчали высокие пучки. Полеглая трава создавала изрядные неудобства, спутывая ноги и не давая шагать. Поэтому, поднявшись на гребень противоположной горы, мы с Гульзиной почувствовали усталость.
На гребне дул теплый ветер, как последний привет от лета... Это место тоже было бугристым. Однако идти было легко, так как высокая луговая трава сменилась здесь на низкую горную.
- Интересно, что там, за этой сопкой? – спросил я с нарочитой робостью.
- Какая разница? Давай пойдем посмотрим! – азартно воскликнула Гульзина.
Любопытство накрыло нас, заставив взяться за руки и продолжать путь. Мы остановились, спустившись до скалистой кручи.
Место это было вкруговую выложено гребенчатым камнем. Оно притянуло нас, заворожило, словно загадочная крепость. Решившись посмотреть, что же кроется за каменной крепостью, мы стали карабкаться на гребенчатый камень. Едва взобравшись на камень, я невольно пригнул голову. Гульзина испуганно округлила глаза и прижалась ко мне.
С той стороны слышался громкий стук. Притянув Гульзину за руку, я посадил ее рядом с собой и подбородком показал вперед.
Она взглянула на открывшийся вид, и глаза ее заблестели от изумления.
Внизу была ничем не защищенная ровная местность, поросшая сочным травостоем. Слева паслось стадо маралов - важенок. Я прикинул, их было порядка тридцати. С того краю бодались два марала. Ветвистые рога их скрестились, и некоторое время они стояли, напирая друг на друга. Затем немного попятились, помахали головами и снова бросились в бой. Раздался стук, похожий на удары камня о камень. Сцепившись рогами, они кружились, взрыхливая землю раздвоенными копытами.
Важенки испуганно посматривали в сторону маралов, схватившихся в кровавой битве. Большинству же из них не было дело до этой битвы, они мирно паслись с краю. «Кто из вас победит, тот и мой», - словно говорил их спокойный безмятежный вид.
-Это поединок любви! – прошептал я на ухо Гульзине.
Она покраснела и отвернулась. Я начал просвещать ее, используя весь запас своих знаний об этих парнокопытных.
- Самый сильный из тех двух дерущихся будет обладать вот этим стадом важенок, - закончил я свою лекцию.
Видимо, я игриво и многозначительно засмотрелся на Гульзину, мой ликующий вид рассмешил ее.
«Это надо видеть», - сказал я и помог Гульзине подняться повыше.
Мы продолжали страстно наблюдать схватку на арене любви, терпеливо ожидая финала поединка оленей.
В конце концов один из состязавшихся самцов был побежден. Он попятился вбок и, сверкая пахом, бросился вприпрыжку наутек.
Победитель, задрав морду, подошел к важенкам. Помахивая головой, он несколько раз важно обошел стадо. Потом пошел вперед, уводя с собой выстроившийся цепочкой «гарем». И вскоре они скрылись из виду.
078.
В воздухе все больше чувствовалась духота.
С запада появилась свинцово-черная туча и, закрыв собой горизонт, двинулась к нам. Вид у нее был зловещий, по всей видимости, ожидался дождь.
- Давай вернемся! – Гульзина с тревогой посмотрела на небо.
- Что ж, наверное, надо вернуться, - согласился я, тоже почуяв опасность со стороны черной тучи.
Мы поняли, что слишком увлеклись битвой маралов и потеряли время. День клонился к вечеру, и все вокруг начало покрываться тенями. Лишь бы ночь не застала нас тут... Но ничего, я лично был очень доволен тем, что, наконец, удалось увидеть такое редкое зрелище.
Пока осторожно, поддерживая друг друга, мы спускались с высоты, откуда ни возмись, закружил вихрь. И вскоре он перешел в сильный ветер.
Мы хотели вернуться прежней дорогой, но тут, смешиваясь с ветром, заморосил холодный дождь. Оставаться под дождем на голой горе, где негде голову приткнуть, было опасно. Понимая это, мы побежали в сторону боковой балки. Все-таки там был густой лес, уж найдется, поди, какое-то укрытие под деревьями.
Вожделенный лес оказался ниже, оскальзываясь, спотыкаясь и падая, мы кинулись под сень ближайшего кедра. Под ней было сухо, вокруг рос ворсистый мох. Несмотря на дожди, похоже, здесь всегда было сухо, плотная крона не пропускала ни капельки. Неожиданно ветер утих, и хлынул ливень как из ведра. Я не думал, что алтайская погода так переменчива. Недавнего душного дня как не бывало, от осеннего дождя вмиг стало холодно. Гульзина начала мерзнуть и задрожала. Пытаясь согреть, я прижал ее к груди. Но это скорее был утешительный жест, нежели действенная помощь. Как бы нам обоим не свалиться, простудив легкие...
-Потерпи немного! – просил я Гульзину, - это же проливной дождь, сейчас прекратится.
А между тем всё окрест утонуло в объятиях темноты. И природа начала сатанинскую свистопляску с ливнем и зарницами молний. Только при очередной вспышке молнии можно было разглядеть что-то.
Мы не поняли, куда, в какую балку мы забрели, убегая от дождя. В какой стороне Тайпак? Где дорога, по которой мы пришли сюда? Где берет начало эта ложбина? Эти вопросы сильно волновали меня, но я старался скрыть от Гульзины свое смятение.
Полагая, что моя спутница знает больше меня, я попытался обиняком выведать дорогу. Но она тоже раньше не бывала здесь.
Грозовой ливень затих так же быстро, как начался. Гроза ливанула и, грохоча и громыхая, уползла прочь, скрылась за хребтом, точно хотела сказать: «С вами дело покончено». Черные тучи в небе поредели, немного прояснилось, и в лесу обозначились светлые пятна.
Скукожившись, как испуганные овцы, мы выбрались из-под кедра. Посмотрев по сторонам, мы не смогли понять, откуда шли и где находимся. Я походил туда-сюда, сосредоточенно изучая следы. Это занятие помогло обнаружить одинокую тропинку. Да и тропинкой-то ее нельзя было назвать, так, едва заметная, слепая тропка с заячий след.
По этому следу мы начали спуск в теснину. Была надежда, что если спустимся на дно балки, дальше как-нибудь разберемся.
На дне балок всегда бывала какая-то речка или ручей. На Алтае нет ложбин без ручьев и ущелий без речек. Еще и поэтому его называли девственной страной и многоводной землей. Не только река, но и крохотный ручеек непременно достигал Бухтармы и вливался в нее. Если доберемся до Бухтармы, не пропадем, там и до Тайпака недалеко.
Медленно продолжая спуск, мы вдруг потеряли из виду свою тропку, оказывается, забрались в какую-то расселину. Здесь рос густой кустарник, переплетавшийся с зарослями калины. Расцарапываясь колючим кустарником и прокладывая себе дорогу руками, мы кое-как выбрались на поросший кипреем склон.
Поздняя трава кипрея после дождя стала скользкой, будто смазанная маслом. Я шел, поддерживая Гульзину и показывая дорогу, как вдруг растянулся и, успев только охнуть, покатился вниз. И катился до тех пор, пока не ударился о ствол огромной сосны. Из глаз моих посыпались искры. Я сильно поранил голень. Гульзина помогла мне подняться. Главное, кости были целы, ничего не сломал, и на том спасибо. Но левая нога не давала ступить, припадая на нее, я едва ковылял.
Теперь пришлось Гульзине стать моей опорой.
Только я сгибался, как она, не выдержав моей тяжести, падала. К тому же, потеряв свою заячью тропку, теперь мы спускались вслепую, держа направление на лощину. По мере спуска темнота в ущелье сгущалась. Вскоре наступила такая мгла, хоть глаз выколи.
В кромешной тьме, раздвигая кусты, падая и снова поднимаясь, мы продолжали спуск. Я едва не лишился глаза, колючая ветка боярышника прошлась по моему лицу. Из ссадины закапала кровь. Так, в великих мучениях, мы достигли, наконец, дна балки.
Предположения не обманули нас: тут с гулом протекала речка. Мы вымокли до нитки, грязная одежда прилипла к телу, все равно оставаться здесь было рискованно.
Осознавая это, мы чуток передохнули и собирались, подпирая друг друга, следовать вдоль речки по течению...
Тут Гульзина заметила вверху огонек.
-Огонь? – спросила она хриплым голосом.
Я тоже повернулся назад и уставился в ночь.
- Не огонь, похоже на свет лампы.
Я протер слезившиеся глаза и снова уставился в маячивший огонек.
- Вон там вроде дом стоит, не так ли?
- Если это дом, пойдем туда? – на этот раз голос Гульзины прозвучал очень жалобно.
И впрямь, на верхней излучине балки просматривалось спрятавшееся в тупике строение. Скорее всего, это дом.
Я вытирал стекавшую с волос на глаза воду и снова вглядывался в темноту.
Наконец, мне удалось разглядеть темнеющий силуэт дома... Из мерцающего окошка струился умирающий свет.
Интересно, что это за дом в глухой горной лощине?
Мои опасения перекрыло чутье, подсказывавшее мне, что этот дом даст нам кров и спасет от трудностей. Кроме того, я понял, что эдаким хромающим ходом сегодня до Тайпака не добраться. Гульзина то и дело дергала меня за руку, словно внося свой голос в положительное решение вопроса.
Выхода не было. Пришлось двигаться к таинственному дому в глубине балки.
Осторожно показалась луна, стайками высыпали звезды. Расчесанной шерстью, подернутая дымкой, протянулась пушистая дорожка Млечного Пути. В памяти совсем не осталось ливня и грозы, которая недавно с громом и молниями обрушилась на нас. Луна пролила на лощину молочный свет, и кромешная тьма отступила.
Таков этот капризный мир... Если б луна выглянула, когда мы спускались с лысого склона в балку, то нам бы не пришлось сносить такие ужасные трудности. И я бы не скатился кубарем с горы, не грохнулся о сосну и не хромал теперь. Что тут скажешь, тьфу, нечистая сила!
Это был вырубленный из сосны осевший приземистый дом. Снаружи он показался мне двухкомнатным. Но крыша была с высоким скатом. В этих краях такие дома назывались избами. Казахи переиначивали их на свой лад: «избёшке», «коржын уй». Скатной крышу делали, чтобы обильно выпадающий здесь снег, не задерживаясь, скатывался вниз. В противном случае он мог просто раздавить избу. Вот так погодные условия научили местное население приспосабливаться к жизни.
На задах дома темнело что-то похожее на лачугу. По всей вероятности, черная баня. Дальше виднелись хозяйственные постройки: хлев, какой-то загон из жердей, сарайчик.
«Что же это за одинокий дом вдали от людей?»
Нам надо было согреться и прийти в себя, не то дела наши были плохи. Поэтому, будь это пристанище самого дьявола, мы были готовы войти туда.
При входе в дом был небольшой чулан с наваленным грудой всяким старым хламом.
Дверь открыла русская старуха с маленьким остроносым личиком. Даже не спросив, кто мы такие, она настежь раскрыла дверь и пропустила нас внутрь.
Старуха помогла Гульзине раздеться. Она что-то бормотала себе под нос, по тону было понятно, что это теплые слова сочувствия.
Едва войдя в дом, я присел на пороге. Силы покинули меня, не давая пошевелиться. Только после короткого отдыха я начал медленно раздеваться.
В углу теплилась коптилка. Пусть слабенький был у нее свет, но ведь это он позвал и привел нас сюда. Слева стоял посудный шкаф, у стены – железная кровать, в углу висела старинная икона. Белый цветастый платок обрамлял икону.
Старуха и без слов догадалась, что мы заблудились под покровом ночи. Они с Гульзиной о чем-то переговаривались, но из-за тяжести в голове и звона в ушах я ничего не слышал. Хозяйка переодела Гульзину в сухую одежду и укутала ей ноги одеялом. Затем притащила старую черную шубу со стриженым мехом и бросила передо мной.
080.
Скромное облачение старухи состояло из желтоватого сарафана, на ногах – лапти. Судя по живым движениям, не такая уж она была старая. Однако лицо ее было очень бледным, голубоватым, и худая - прямо ходячий скелет.
Между делом старуха сварила полный чугунок картошки. Радушно, как самым лучшим гостям, постелила скатерть, нарезала хлеба, заварила чаю. Большая часть различной посуды, выставленной на стол, была сделана из березовой бересты. Я слышал, что местные русские называют их туесом или туеском. Это были неповторимые образцы прикладного искусства.
Я подумал, вот бы написать этнографический натюрморт, поставив в центр стола берестяные туеса, а вокруг - всякую старую посуду. Но откуда сейчас на это силы?
Старуха что-то бормотала по-русски. Говор ее не был похож на обычный русский язык, и в словах и в ритме слух улавливал отличия. Отсюда я сделал вывод, что, возможно, она кержачка.
Братья-кержаки были известны нам еще с детства. В то время у этого народа и нрав был другой, ершистый. Ни русских, ни казахов они не пускали в дом, обнесенный плетнем, кто бы ни пришел, встречали снаружи. Знавшие об этом ребята-зубоскалы, специально ходили к ним и просили попить воды. Недовольно ворча и ругаясь, старухи все же подавали им воду, но потом выбрасывали посуду. Это доставляло нам столько веселья! Позже число староверов, строго хранивших и соблюдавших кержацкие обычаи, уменьшилось, старики поумирали. Советские требования и обстоятельства жизни и на них возымели действие. Они создавали семьи с местными русскими и постепенно смешались с ними. Теперь, что тебе русский, что кержак, не разобраться.
Так что эта старуха сохранилась в горах как редкий музейный экспонат.
За столом я понемногу рассказал хозяйке о наших приключениях.
Старуху звали Акулина. «Как по батюшке?», - спросил я, но она сказала: «Зовите баба Акулина».
Хозяйка тоже расположилась к нам и поведала о себе. Это место казахи называли Жаманшат, то есть Мрачный Лог. Муж Акулины Мокей прославился в этом краю как непревзойденный охотник. Несколько лет назад, зимней порой он поехал с единственным сыном охотиться в сторону Таутекели и убил его случайным выстрелом. Старик не смог справиться с этой кручиной и меньше, чем через год, сам умер от сердечного приступа.
Я вспомнил историю, которую мне рассказал Мунарбек, когда мы выезжали с ним на Сарыбет. Наверняка это скорбное жилище принадлежало тому охотнику. Если не забыл, вроде фамилия его была Губушкин.
Я деликатно спросил у Акулины про фамилию.
- Мы Кубышкины! – сказала она. – Мы из древних христиан, и веры праведной не переменили.
Возможно, бедная баба исказила фамилию, и Мокей Губушкин являлся ее мужем.
Но Мунарбек не говорил о том, что вслед за сыном отправился на тот свет и отец. Значит, несчастный Мокей не справился с выпавшим на его долю горем и умер от тоски…. Не приведи господь, так тяжело было слушать эту печальную историю, сердце кровью обливалось от жалости.
Я открыл рот, как рыба на суше, и глубоко вздохнул.
- Чадо мово сгубил, алгимей треклятый! – проговорила старуха и, сгорбившись, оплакала сына.
Мы с Гульзиной были чужими случайными людьми для нее, но неизбывная тоска сама просилась наружу, выливалась из изболевшегося материнского сердца.
По рассказу Акулины мы поняли, что с тех пор она живет одна. В городе была еще у нее замужняя дочь, которая в летние месяцы наезжала с детишками к матери. В этом году они опять все лето напролет гостили у старухи и уехали прямо перед началом учебы. И вправду, такое красивое место, прохладные тучные луга, леса, словом, лоно природы, - не хуже школьного лагеря.
Начальники приглашали старуху к подножию, жить среди людей, но она не захотела. В понимании Акулины, село давно уже испортилось, духовной чистоты нет, все стали «анчихристами».
Хозяйка сказала, что выращивает несколько свиней, птиц и гусей. Она получала небольшую пенсию, на чай и хлеб ей хватало. От старика осталась одна рыжая лошадь, да и та «околела». Сказав это, Акулина показала пальцем в небо. Я не понял, что это означает и переспросил. В те еще годы с неба упало железо, пояснила она, и убило неповинную тварь, что паслась себе на холме.
- Иисусе многомилостивый, - произнесла старуха при этом воспоминании и, повернувшись к иконе, перекрестилась двумя пальцами и трижды отвесила поклон. – Это знамение господне, божья кара!
По предположению ее, данное событие тоже было несчастьем, посланным Богом их дому. О таинственной гибели рыжего коня стало известно всему селу. Тут же примчались какие-то военные, заплатили старухе стоимость коня и утащили железо.
Поначалу я принял рассказ Акулины за миф или легенду. Но когда она сказала, что пришли военные и утащили железо, в сознании кое-что прояснилось…
Скорее всего, то железо являлось упавшей частью космического корабля. Траектория этих кораблей, запускаемых на Байконуре, проходила как раз над Алтаем. Я читал, что первые ступени ракет падают в безлюдную тайгу. И, правда, весь этот край – безлюдная местность, густой непролазный лес. Надо же было этому железу упасть именно на единственную лошадь Губушкиных! Будто ей места другого не нашлось.
После того, как мы с Гульзиной попили горячего чаю со смородиновым вареньем и поели рассыпчатой картошки, нам стало лучше. Мы согрелись и пришли в себя. Правда, нога моя не давала мне покоя, ныла и болела. Да и Гульзина побледнела, как бумага, и кашель ее участился. Хорошо еще, что она предусмотрительно захватила свою куртку. Ибо, каким бы день ни казался теплым, но осень есть осень, она пронизывала холодом. К тому же совсем недавно выпадал снег и мела метель. «Как бы она не схватила воспаление легких», - сильно переживал я.
081.
Старуха знала Тайпак, по ее словам, не так он был далеко отсюда. По-видимому, мы попали в один из многочисленных ложбин Алтая. Если это Жаманшат, то Тайпак должен быть у входа в следующую балку. И в самом деле, мы не могли уйти слишком далеко…
В конце концов, мы остались ночевать у старухи Акулины. Гульзина проболела всю ночь, у нее поднялся жар. Старуха приготовила снадобья и долго сидела подле нее. Она натерла тело Гульзины целебными травами и напоила каким-то отваром. Потом завернула в теплое одеяло и заткнула его со всех сторон.
Руки старухи оказались волшебными, наутро Гульзине стало гораздо лучше, только немного болела голова. У меня же нога распухла, кости ныли, тело отяжелело. Приходилось признать, что я превратился в самого настоящего городского неженку, непригодного даже для однодневного похода с трудностями.
Несмотря на боли, я старался не показывать виду, покружил вокруг дома, разминая занемевшее тело гимнастикой. Правда, от этого я не выздоровел.
После утреннего чая Акулины мы, ступая вялым шагом, вышли в путь.
- Пращевайте, благостные мои, живите с миром! – сказала старуха Акулина, перекрестилась и поклонилась нам вслед.
«Спасибо вам, горемычная добрая матушка!»
Я подумал, что те угрюмые негостеприимные кержаки, выбрасывавшие посуду после тебя, остались лишь в моем детстве…
082.
Мы считали, что Тайпак не так уж далеко, однако мне, хромоногому, он показался концом света. Немалое расстояние пришлось прошагать, будь он неладен.
Мы порядочно устали, пока добрались по узкой дороге вдоль речки до конца ложбины. И совсем выбились из сил, обходя выступающий мыс. Короче говоря, баба Акулина сильно сократила нам дорогу словами.
На подходе к Тайпаку я кинул вокруг взор и понял, что, спасаясь от дождя, мы пошли, не разбирая дороги, и очутились в дальней балке. Верно говорили, что Алтай не прощает оплошностей и не щадит заплутавших.
На лесной кордон на Тайпаке мы доплелись лишь после полудня.
Только войдя в дом и свалившись в постель, я осознал, насколько рискованным было наше путешествие. Конечности мои дрожали, рот подергивался, подбородок трясся, как у старика. Если б не старуха Акулина, весьма сомнительно, что прошлой ночью мы пришли бы в Тайпак. Вымокшие до нитки, мы бы свалились под каким-нибудь кедром, и, кто знает, возможно, уснули б вечным сном.
083.
Погода опять резко испортилась.
Пока мы вошли в дом, оклемались и попили чаю, снова полил дождь.
Мы предполагали, что он такой же проливной как вчера, но ошиблись. Дождь продолжал упрямо моросить, видно, зарядил надолго.
Гульзина сообщила, что сегодня первое воскресенье октября, а значит, день учителя. Меня эта весть привела в замешательство. Такой красавице, как Гульзина, надо было сделать достойный ее подарок, а у меня ничего не было под рукой. Я не знал, что делать. Мне ничего не оставалось, как пожать ей руку, поцеловать в лоб и, поздравив с праздником, вручить ее собственный портрет.
К вечеру дождь утих и задул сильный холодный ветер, который вскоре перешел в бушующую бурю. Крыша дома застучала, окна заскрипели, сосновый лес внизу зашумел. Вскоре началось светопреставление. Сначала снаружи послышался вой тысячи волков, затем этот вой превратился в вопли демонов и всякой нечисти. Даже открыть дверь было страшно, не говоря о том, чтобы выходить наружу. Мы боялись, что ураган побьет стекла и вырвет дверь. Когда к стоявшему в ушах гвалту присоединились яркие вспышки, было ощущение, словно мы смотрели фильм ужасов.
- Это похоже на вспышки фотоаппарата. Кто-то там снимает все на пленку, что ли?
- Красивое сравнение, - сказала Гульзина, – но не шутите с молнией, она – проявление воли Аллаха, смотрите не прогневите…
Сказав это, она чмокнула меня в щеку.
Гульзина встревожилась, думая о том, как она будет добираться домой по такой буре.
- До утра ураган утихнет, день прояснится, вот увидишь! – произнес я, как вещун, вселяя в нее веру.
Опасаясь, что ураган может побить стекла, мы постелили себе на полу, подальше от окна, и некоторое время лежали, слушая бурю и переговариваясь. Затем, погрузившись в свои радости, начисто забыли про шумевший снаружи дождь, лютовавшую бурю, вообще, про все на свете.
Кутерьма, которую устроила природа, еле прекратилась под утро.
084.
Пока Гульзина готовила завтрак и накрывала на стол, я оделся и вышел обследовать подножие.
Кругом была слякоть, дорогу развезло, продвигаться по ней пешком, увязая в грязи, было бы очень трудно. Вода Бухтармы поднялась и вышла из берегов. Вчерашней переправы не было и в помине, течение было таким сильным, не то, что на лошади, на лодке не одолеть.
Услышав эту удручающую новость, Гульзина чуть не расплакалась.
- На работу не попала, стыдно-то как… что делать, если люди заметят… сплетничать начнут… свекровь с сыном не сегодня, так завтра должны возвратиться из Ореля… если они приедут, примутся искать меня, всех соседей и знакомых на ноги поднимут, - говорила она, наводя на себя страх.
- Салима ведь знает, где ты, да и видит, как испортилась погода… уж, наверное, найдет на работе какую-то причину?
Как бы ни терзала себя Гульзина, делать нечего, вода вышла из берегов, грязь по колено, пришлось ей остаться со мной на неопределенное время. Я тоже тяжело вздыхал и сетовал по поводу сложившегося обстоятельства. Сокрушенно качал головой, выражал недовольство погодой, но внутренне был рад.
Вот так, запертые в доме, как в клетке, мы целый день провалялись в постели.
Обнимались, утоляя свои чувства, осыпали друг друга ласками, и не могли насытиться. Словом, мы проживали полное блаженства, незабываемое время своей жизни.
В этот день мы исчерпали весь запас историй, у нас не осталось невысказанных признаний, нераскрытых тайн, мы поделились даже затаенными глубоко внутри горестями и печалями.
- Я была брошенной мужем половинкой души, женщиной, неспособной выйти за пределы каждодневной суеты. Я была скромной учительницей с единственным сыном и старой свекровью на руках. И за этой тщетой жизни забыла, кто я. Вы напомнили мне, что я женщина, превратили меня в совсем другого человека.
- Я тоже изменился с тех пор, как приехал в эти края, дорогая!
- На мою долю выпало много трудностей. Но, несмотря на это, я была горда, честолюбива. Я не расслабилась, не покорилась трудностям, иду своей одинокой дорогой, ни перед кем не преклоняя головы.
- Ты – девушка с сильным духом, Гульзина!
- Все люди нуждаются в теплом участии. А женщины жаждут благосклонности мужчин. Только красота рождает красоту. Так, и красивое чувство тоже тянется к красоте…
- Где ты научилась этим мудрым словам?
- Сказать правду? Это вы меня научили…. Эти дни научили. Красота и мудрость женщины зависят от мужчины, вот что я поняла.
Сердце мое растаяло, и я прижал Гульзину к груди.
- Моя жизнь обрела смысл, существование наполнилось содержанием. Все вокруг стало нарядным, мир преобразился…
Что бы ни говорила Гульзина, я кивал головой и нюхал ее волосы. Что еще я мог сделать или сказать? В минуты такого трепетного волнения словам нет места.
Если говорить начистоту, то признание лежащей в моих объятиях белотелой нежной девушки и меня вознесло на гребень чувств…. Я вспомнил состязание маралов, которому довелось нам быть свидетелями в далекой лощине неприступных гор. Это было настоящей удачей! Мне захотелось изобразить на полотне то восхитительное зрелище, которое дано видеть одному из тысячи. Я решил написать картину, которая бы потрясла зрителей, поразила их до глубины души.
«Увидите, если буду жив-здоров, я еще удивлю вас и заявлю о себе на весь мир!»
085.
Обнимая Гульзину, я подумал о том, что судьба аульных девушек тяжелей и сложней, нежели у городских.
Если не все, то многие сельские девушки вряд ли нуждаются в таком заветном понятии, как любовь. Разумеется, все женщины в юности мечтают о благородном чувстве, о высокой любви. Но, не найдя соответствующего этому духовного совершенства, они начинают томиться. А годы проходят, время летит. В конце концов, не встретив желанного в ближайшем окружении, они вынуждены соединить судьбу с первым встречным тихоней. После рождения детей строптивое сердце успокаивается, заповедная мечта о любви забывается. И одной неряшливой суматошливой теткой в ауле становится больше.
Так, первостатейные красавицы иногда проводят свои дни, лишь в мечтах лелея желанную любовь. Их тоска по высокой любви выливается в задушевной песне на разных пирах и празднествах, обняв подушку, довольствуются они грезами и снами.
Молодая жизнь Гульзины мне тоже представилась в таком свете.
- Конечно, - сказала Гульзина, будто прочитав мои мысли, - когда меня силой похитили, завели в дом и накинули платок, можно было сорвать его и уйти. На это у меня хватало и мужества, и духа. Пусть бы вслед мне судачили и сплетничали, называя «побывавшей замужем». О чем только не толкует народная молва, потом бы все забылось. Если уж на то пошло, могла бы переехать в другой аул, даже в другой район. Но увидела я будущую свекровь... и осталась. В облике ее была человечность, глаза наполнены добротой. Когда она, раскинув объятия, со слезами на глазах понюхала меня в лоб, я не смогла оттолкнуть ее. «Вот и дождалась счастья моего единственного! Был один, а стало двое, теперь ты будешь моей дочерью. В обоих мирах благодарна я Аллаху!», – причитала она. Эти слова моей свекрови связали меня по рукам и ногам. Но что поделаешь, радость матушки продлилась недолго. Едва я успела прийти в себя после рождения Мурата, муж мой исчез бесследно. «В селе для меня нет подходящей работы, поеду на заработки», - нашел он повод, закинул сумку за спину и с важным видом подался в город. С тех пор вот уже семь лет, как от него нет ни весточки. Не знаем даже, в каком он городе. Может, отдал концы, без савана, без могилы. И это неизвестно. Если живой, ладно, пусть забыл про жену и сына, но хоть раз бы вспомнил о дряхлой старухе-матери!
Я обнял Гульзину, и, лаская, погладил по голове. Она подняла голову, посмотрела на меня. Глаза ее были наполнены слезами...
Она так привязалась ко мне, что, не останавливаясь, изливала мне свою душу.
- Если во мне есть хоть капля благонравия и человечности – половина этого благодаря художественной литературе, - сказала Гульзина. – Я много читала. В дни отчаяния я искала защиту у книг. И всегда хочу быть похожей на героинь прочитанных книг. Я стараюсь усвоить их поступки, хорошие качества. На мое формирование как человека повлияли эти книги. А после них многому меня научила свекровь.
«Видно, свекровь этой женщины – добропорядочный хороший человек. И на том спасибо».
Нашим разговорам не было конца...
Я знал Гульзину всего несколько дней, но подметил, что эта молодая женщина очень хорошо понимала меня. С полуслова она догадывалась, что я хотел сказать. Видит Бог, я никогда прежде не встречал такого понятливого создания.
«Возможно, это единственный на свете человек, который поймет мою заблудшую душу?».
Что бы я ни говорил, эти дни для меня были наполнены сладкими как мед, незабываемыми мгновениями. Я испытывал неизведанное прежде блаженство, будто находился в самом что ни на есть раю. Тело мое расслабилось до самых костей. Очевидно, это и было то самое «счастье», к которому в течение всей жизни стремятся все смертные. У этого счастья наверняка тоже были периоды совершенства, отпущенный отрезок времени. Я ощущал себя вышедшим за пределы найденного мною совершенного счастья, достигшим грани зрелой полноты.
Что же это за такое бушующее чувство, удивлялся я. Всё мое существо словно излучало свет, а сердце было пронизано солнечными лучами. Мне чудилось, что я вновь вернулся в свое забытое юношество… Сердце билось учащенно, не зная отдохновения, мысли и мечты уносили в заоблачные выси.
Ночью сон мой был обрывочным, и, когда Гульзина вышла во двор, я прилег и задремал. Во сне я увидел уходящую Гульзину. Она, не оглядываясь, твердым шагом уходила по широкой трассе в сторону своего аула. Ах, какая была у нее походка… грациозная и летучая. Я остался на месте, глядя вслед молодой женщине и любуясь ею. Потом громко позвал ее, она не услышала. Из моих уст вырвался душераздирающий вопль, но Гульзина все равно не услышала. Вот так, не слыша меня, не оглядываясь, она ушла за горизонт и пропала.
Проснулся я от шороха. Это была Гульзина. Я рассказал ей только что виденный сон.
- Почему ты не обернулась и не посмотрела на меня? Я испугался того, что ты ушла, не оглядываясь.
Гульзина подошла ко мне, с грустью обняла меня и поцеловала поочередно в обе щеки.
- Не бойся, - произнесла она, - я теперь твоя навеки!
086.
В обеденное время приехал Мунарбек, ведя вторую лошадь на поводу.
Бухтарма вышла из берегов, переправа закрыта, дорога была в непролазной грязи, машины стояли. Поэтому он прибыл, никому не сообщая, не показываясь посторонним людям на глаза, тайком увезти Гульзину в аул. Это был поступок, достойный настоящего мужчины!
- Агай, в мое отсутствие вам не пришлось скучать? – спросил Мунарбек. Щетинистое лицо его точно приплясывало, глаза искрились.
«Вот плут! Еще шутить изволит…»
Мы пообедали втроем.
Пообещав вернуться через три дня, Гульзина уехала с Мунарбеком.
087.
После обеда опять заморосил дождь.
Это был надоедливый дождь, изматывавший своей монотонностью. Он и не шел, как следует, и не переставал, а моросил мелкими каплями весь день. Когда свечерело, к наскучившему дождю добавился густой сизый туман и сразу же закрыл собой и пики Алтая, и нижние сопки. Всё окрест нахмурилось, опечалилось. Рядом со мной не было Гульзины, и, как бы лишенный опоры, я начал поддаваться чувству одиночества.
В такие минуты было бы очень кстати присутствие Мунарбека, но он задержался в ауле, мною одолели скука и томление.
Думая о Гульзине, я уснул.
088.
Вздрогнув, я проснулся от громкого скрипа.
Рассвет только забрезжил. Вначале подумал, что это землетрясение. Я знал, что толчки обычно повторяются и, подняв голову, уставился в потолок. Обе люстры оставались неподвижными.
Накинув на плечи жилет, я вышел во двор. Во дворе угадывалась некоторая перемена. Я не мог взять в толк, что это была за перемена. И тут увидел в нескольких метрах упавшую старую сосну. Она лежала с вывореченными корнями. Верхушкой сосна достигала угла дома.
Умывшись, я затопил печь. Вскипятил воду и приготовил чай. В доме было достаточно и мяса, и всякой другой еды. Кажется, имелось все, чего душе угодно.
Пока я оделся потеплее и вышел наружу, и двор, и упавшая сосна пропали из виду. Туман... Прямо-таки слепой туман. Протянешь руку – пальцы едва различишь. Если подальше отойти от дома, наверняка заблудишься. Разобьешься, упав с обрыва, натолкнешься на дерево либо колючкой кустарника выколешь глаз. Ужас! Ну и плотный туман, жуткое явление, еще во сне приснится.
Откуда-то послышался детский плач...
Я не обратил на него внимания, сославшись на высоту и заложенность ушей. Дважды сглотнул, чтобы устранить слуховые помехи. Вообще, в последнее время в ушах у меня стоял звон, слух улавливал какие-то странные голоса. Я родился и вырос в горах, но, вероятно, живя долгое время в городе, отвык от высоты.
Вот и звон был от этого, иначе говоря, я не мог привыкнуть, приспособиться к горным условиям. Не помешало бы как-нибудь проверить кровяное давление...
Купаясь в белом тумане, я слонялся туда-сюда.
Придерживаясь знакомого направления, прогулялся по кудрявой сопке до речного побережья. Под ногами вился едва заметный след тропинки. А вот густо росшие по обеим сторонам сосны и березы были видны неотчетливо. То здесь, то там неожиданно появлялись свисающие ветки. Если не остерегаться, можно было выколоть глаза или поцарапать лицо.
Молочный туман создавал впечатление перевернутого мира. Это было непривычно для глаз, чуждо для восприятия. Шум реки тоже стал иным, словно придушенно исходил из глубины и, сопротивляясь туману, пытался вырваться из его плена.
От нечего делать я, не ленясь, измерил шагами расстояние до реки. Выходило то 154, то 156, то 152. В среднем, получалось 154. Если прикинуть, то примерно, 120 метров. Для чего я это делал, и сам не знал.
В какой-то миг я вздрогнул от ощущения, что кто наблюдает за мной сзади. Ей-богу, даже спина похолодела.
Я оглянулся. Туман сбоку слегка рассеялся, и я увидел под сосной чью-то фигуру. Туман не дал разглядеть яснее, но все же я заметил, что это пес. Шерсть у него на загривке стояла торчком.
«Ойбай, откуда здесь быть собаке... это же волк!»
Стоило мне подумать так, как тут же сердце подскочило прямо к темени. Размахивая руками для храбрости, я закричал, что было мочи. К счастью, рядом со мной лежала ветка сосны. Я схватил ее и помахал. По всей видимости, ни вопль мой, ни угроза на волка не подействовали. Глаза его светились, как зеленые маяки. Он постоял немного, глядя на меня, потом спокойно повернулся и, прижав хвост, растворился в тумане.
Только теперь я по-настоящему почувствовал свое одиночество. Не только почувствовал, но и дрожавшими ногами, всеми двенадцатью частями тела признал, что тайга опасна. До сознания моего дошло, вполне возможно, что этот одинокий волк через некоторое время вернется со стаей. Осенью волки не голодны, могут довольствоваться и мышами, но у того матерого самца вид был подозрительный. Он походил на хищника, который выслеживал именно меня.
Я быстро вернулся домой и закрылся на крючок, как будто стая волков могла с рычаньем ворваться внутрь.
«Ну, как ты грезил в городе уединением? Получай!»
089.
Я не отходил далеко от дома. Куда мне было идти в таком густом тумане? К тому же тот волк сильно напугал меня.
Подолгу сидел за столом, делая наброски к будущей картине о схватке маралов. Вдалеке от аула, в необитаемом месте одинокому человеку и кусок в горло не лезет.
Отсутствие Гульзины действовало на меня угнетающе.
Я утвердился в том, что между мной и Гульзиной существовала некая правда. Мы и сами не заметили, как возникло новое пространство, прекрасный мир. Говорят, что настоящая любовь дается только один раз... Сдается мне, я, бедолага, удостоился такой любви. Если это истинно, я должен ценить ее, лелеять.... Мне остается только благодарить судьбу за этот дар. Я благодарен также другу моему Ералы, который пригласил меня на Алтай и устроил такой замечательный отдых. Ведь если б не Ералы, я бы мог не встретить мою любовь Гульзину и проскользнуть по жизни, не познав ее. С моими неглубокими понятиями и дурным характером это было очень даже возможно.
Самое интересное, мне мнилось, что я давно знал Гульзину. Ей-богу, так..., давно знал. Эта девушка много раз встречалась мне в жизни, и, возможно, я не раз беседовал с ней. Однако я, несчастный, в суете нескончаемых бесплодных дел, похоже, не обратил на нее внимания.
Полдень миновал, но туман не собирался рассеиваться...
Вдруг раздался отчаянный визг машины, которая буксовала на слякотной дороге. Я вышел во двор. Какой-то черный «джип», пронизывая туман желтыми фарами, с ревом подъехал и остановился.
090.
- Мы и не заметили, что Бухтарма вышла из берегов. – говорил Ералы, радушно здороваясь. – Чуть не застряли на переправе. Только благодаря опытности шофера все же выбрались.
- Что будешь делать на обратном пути? – спросил я.
- Если не пройдем, будем куковать возле тебя, пока вода не уляжется.
- Давайте, места всем хватит.
Ералы и Мунарбека захватил с собой из аула. Мунарбек с водителем «джипа» принялись за кухонные дела.
«Что привело тебя сюда в эдакую непогоду?», - только успел я спросить, как Ералы расхохотался: «Приехал посмотреть, как ты отдыхаешь». Потом, несколько помявшись, рассказал правду.
На следующей неделе из области должны были приехать два больших начальника. Они имели лицензии и хотели, видимо, поохотиться в горах и отдохнуть на природе. И вот было принято решение поместить этих уважаемых гостей в укромном месте, подальше от людских глаз, короче говоря, на этом кордоне. Сверху было спущено задание до их приезда «отремонтировать дом, освежив побелкой и краской изнутри и снаружи».
-Когда я должен освободить?
Ералы поджал губы, что-то подсчитывая.
-Завтра выходной... Послезавтра пришлю тебе машину.
-Хорошо, пусть будет так, послезавтра освобожу дом.
Я пробовал подвести счет своему пребыванию здесь, но сбился.
- Сколько дней, как я приехал?
- Если считать завтрашний день, то ровно восемнадцать.
- Да, восемнадцать дней...
Я покачал головой и рассмеялся.
- Оказывается, я потерял один день.
Ералы, не поняв моей шутки, неловко почесал висок.
- Жаке, честное слово, мне трудновато будет продлить твой отдых. Дело в том, что я на послезавтра пригласил сюда маляров и прочих рабочих по ремонту.
Потом по-свойски приобнял меня за плечи:
- Ты не обижайся, - сказал он, приблизив ко мне лицо, - обстоятельства так складываются. Приехал бы в райцентр и погостил немного у меня дома?
- Спасибо! – ответил я. – Ты и так создал для меня все условия. Я хорошо отдохнул. Написал несколько этюдов. Я всем доволен! Мы тоже не с неба свалились, понимаем ситуацию... Короче, впечатлений моих, полученных на Тайпаке, хватит на всю зиму. Если найдешь машину, то я, нигде не останавливаясь, уеду прямо в город.
- И что, не заглянешь к нам?
- Это по ходу будет видно.
- Спасибо и тебе за понимание. Послезавтра приедет вот этот Секо... Опытный шофер. Эй, Секо, подойди сюда! – сказал Ералы и дал водителю подробное задание, касающееся моей персоны.
Ералы отведал ужина, посидел около часа, рассказывая о том, о сем, и спешно отбыл, чтобы засветло переправиться через реку.
К вечеру стлавшийся по земле туман начал редеть и двинулся к горам. Дождавшись этого, Мунарбек оседлал рыжего коня и, пообещав вернуться завтра, уехал в аул.
091.
Сегодня солнце щедро дарило свои лучи.
Высоко в небе плыли облака, похожие на редеющий дым потухшего огня. Над самой крышей дома с шумом пролетели две утки. Пожалуй, это были последние перелетные птицы...
Совсем стал непонятен нрав алтайской осени, непостоянной, как капризная девица. Сорок раз на дню менялась она... И следа не осталось от бесновавшейся бури, грозившей опрокинуть мир. То же можно было сказать и о ливневом дожде накануне бури. А теперь, вы только взгляните, природа радостно заискрилась, и, как ни в чем не бывало, улыбаясь, взошло солнце.
Все перемены, происходившие с природой, я наблюдал из окна, ворочаясь в постели.
Раньше я как-то не обращал внимания, а теперь увидел, что дом и в самом деле нуждался в ремонте. Для высоких гостей его необходимо было привести в порядок, побелить, покрасить.
На стене висела небольшая деревянная полка. На полке стоял все тот же Сервантес и четыре привезенные мной книги. Под полкой была цветная фотография девушки, видно, вырезанная из журнала. Лицо ее мне показалось знакомым, наверное, киноактриса. Фотография тоже пожелтела, была засижена мухами и полиняла.
На почетном месте висела голова оленя с огромными рогами и отвисшей на шее складкой кожи. У порога – косуля с пугливыми глазами.
Над косулей тикали круглые часы.
Ну что ж, пора и честь знать. Спасибо этому дому, пойду-ка я собираться в дорогу, мне завтра ехать в город. Хорошо, что все так устроилось. Сколько же можно мне валяться тут на дармовых харчах, как в гостях у маминой родни.
Гульзина не знала о моем отъезде, мы договорились с ней, что она приедет послезавтра. Если так и случится, то она здесь найдет лишь мое остывшее место.
Ясное дело, мы с ней не увидимся, так складывалась ситуация.
Сжигающее, как пожар, сожаление обожгло мою грудь.
Как же известить молодую женщину? В поисках решения я разрывался на части.
Я решил не думать о Гульзине и, взяв с полки книгу, принялся за чтение. Но все равно мысли мои были совсем в другом месте, я не знал, что это за книга и о чем она. В груди моей пылал костер, мозги кипели...
Это говорило о большом изменении, происшедшем в моем сердце.
Я вроде совсем недавно был спокойным, а теперь маялся, не зная, как скоротать время. Напрочь потерял терпение, то и дело беспокойно поглядывал на часы, висевшие над дверью. Но сколько бы я ни смотрел, стрелки не двигались, чтоб им пусто было. Казалось, время стоит на месте.
Меня посетило сомнение: а что, если часы остановились и не работают? В этом богом забытом месте такое было очень даже возможно. И правда... Обрадованный открытием, я вытащил из кармашка сумки свои наручные часы, снова и снова всматривался в циферблат с надеждой. Они договорились, что ли? Или решили сообща испытывать мое терпение? И те, и другие часы показывали одинаковое время.
Не находя себе места в двух комнатах, я вышел на веранду и начал разминать тело. Сделал тридцать взмахов руками, пятьдесят приседаний. Лег на пол и перекрестно подвигал ногами, поотжимался, качая бицепсы.
Я запыхался и устал. Дыхание мое участилось, я даже начал задыхаться. Однако усердная гимнастика была не в силах успокоить мой бунтующий дух.
Душа моя точно вышла из берегов и жаждала широких, необъятных просторов. Всем своим существом я хотел раствориться в природе и исчезнуть.
Тепло одевшись, я вышел из дому. Огляделся по сторонам.
С чего мне начать? В какую сторону пойти?
Ложбина была тесна и для глаз, и для настроения. На равнине, что у подножия, я был несколько раз и все там обследовал. Как-то дошел до Курти, всласть погулял там, познакомился со всей долиной реки, достаточно.
Сейчас для меня и вольно простиравшаяся степь Матая, и лесистая долина Бухтармы не предстваляли инереса.
«Может, в горы прошвырнуться?»
По противоположному гребню я тогда взобрался вот на ту высоту. Мне вспомнилось, как я обманулся, полагая, что вдоль гребня колышутся сенокосные угодья. Оказалось, что там все сплошь поросло непроходимым кустарником. Сегодня у меня не было ни сил, ни желания преодолевать кустарниковые заросли.
Обследовав взглядом округу, я облюбовал ближайшую сопку с северо-восточной стороны и взял на нее курс. Высота и широта могли найтись и на этом холме. Я вознамерился размяться в спокойной прогулке, вдыхая воздух полной грудью, напиться досыта чистого воздуха.
092.
Предгорье оказалось полностью в складках камней. Они сложились рядами, как приданое невесты. Я поднимался, то, карабкаясь на камни, то обходя их, используя на ходу все щели и расщелины. Три-четыре раза останавливался передохнуть. Осторожно ступая, я, наконец, взобрался на холм.
Издалека он показался пологим, но на самом деле был довольно высок, а путь к нему – нелегок.
Когда дыхание мое успокоилось, я расстелил на пожелтевшей траве куртку и разлегся на ней.
В эти дни я изрядно поправился, живот мой округлился, тело окрепло.
Мое внимание привлек мох необычного белого цвета. Густой ворс его пестрел ковром на поверхности камня. Я слышал о целебных свойствах этого мха. Говорили, что за ним приезжают из самой Москвы и увозят, распаковав по мешочкам. Ладно, пусть везут. Но ведь местные казахи и не ведали об этом мхе, а если и знали, то не применяли. Это, пожалуй, еще один недостаток казахской ментальности.
Было такое чувство, что округа усыпана цветами... Господи, весна наступила, что ли? И солнце обильно лило свое тепло, я разморился, потянуло ко сну. Все окрест было насыщено золотом осени и тоже дремало. Припухшие, как почки, косогоры и багряные холмы притягивали взор, околдовывали. Я приветливо смотрел на белоногих берез, плодоносных лиственниц и развесистых кедров. Даже угрюмые скалы поблизости, слепая лощина сбоку и глубокое ущелье на южной стороне словно ласково манили к себе.
Что там ни говори, я и сам был удивлен своим преображением. Столько было во мне доброты и благости.
На туманном перевале виднелись две черные точки. То появляясь, то исчезая на фоне пестрого пейзажа, они уходили за горизонт. Я приставил к глазам бинокль. За спинами у них висели рюкзаки. Возможно, это собирающие кедровые шишки сельские жители? Или как бы не те беглецы, о которых говорили накануне пограничники.
Из осыпи сверху пропищала пищуха. Видно, увидела во мне чужака и забеспокоилась. Я обернулся. Она сидела, нахохлившись, возле плоского камня, где разложила зеленую траву для просушки. Вспугнутое моим движением, животное юркнуло между каменными складками осыпи.
Сердце мое не знало покоя, общее состояние было мятежным.
«Неужели я и вправду влюбился?»
Нет, подобной беспомощности у меня еще не было. Разве такое явление как любовь не противоречило моим жизненным устоям? Я давно разочаровался в женской половине человечества. Обжегся об нее, да еще как. С тех пор мой интерес к женщинам исчерпывался лишь одной встречей в месяц, ибо от них было больше вреда, чем пользы. Я старался за версту обходить их. Памятуя о том, что любовь – это заболевание, приходящее без предупреждения, я стремился к осторожности, всячески оберегал себя от этой напасти. Мне не было дела до остальных, готовых умереть в пламени любви. Пусть женятся либо изнывают дальше, их воля. А я был склонен защищать себя, предпочитая одиночество. Нет, мне было не по пути с другими мужчинами, ежечасно готовыми на «подвиги» ради любви. Я посвятил свою жизнь высокому чистому искусству, другими словами, я был преданным слугой искусства. И жил верой, что в этой сфере когда-нибудь достигну сверкающих высот. Поэтому никто не имел права винить и осуждать меня. Среди людей искусства можно было насчитать сотни холостяков, проживших свою жизнь, не обременяя себя семьей. Благодаря этому, они оставили неизгладимый след в истории человечества, подняли культуру и цивилизацию на более высокий уровень, послужили прогрессу в мире искусства. Начнем со средневековья: Вольтер, далее Спиноза, Бетховен, Руссо, Кант… Можно причислить к ним и моих коллег – Карл Брюллов, Владимир Боровиковский, Винсент-Ван-Гог, Камиль Коро, Эль Греко, Эдгар Дега, Морис Латур, японец Утамаро, кто же там был еще? Забыл… Словом, этот список имеет продолжение.
Даже несравненный гений мирового искусства Леонардо-Да-Винчи, не задумываясь, посвятил всю жизнь искусству и остался один, как перст. И Боттичелли, и скандалист Караваджо.
Ко всему прочему, я уже разменял четвертый десяток, какое тут чувство, какая любовь?
Задор и пламя горячей юности остались давно позади. Их теперь можно было отыскать лишь в воспоминаниях. Поэтому, вероятно, это мимолетное увлечение, сегодня оно есть, а завтра нет…. Что же делать в таких случаях? Как можно обрести покой одумавшемуся человеку? Так сидел я, страдая от неумения найти спасение, исцеление от недуга.
А может быть, я влюблен не в девушку, а в ее песни? Да и это было неясно. Мне ничего не оставалось, как терпеливо ожидать конца этому сердечному наваждению.
На заре юности я опростоволосился перед умными девушками, но зато потом не церемонился с простодушными. Даже, бывало, напускал на себя суровость, мог заставить их страдать.
Что же теперь стало со мной?
093.
Самоотверженное служение искусству не помешало нам в свое время побывать в любовных перипетиях.
Я не о Салиме…
Как ее ни назови, - первой любовью или незрелым чувством, - я признавал, что эта девушка оставила в моей жизни незабываемую отметину. Она разбудила мое честолюбие, всколыхнула дух, поставила ориентиры на пути моего мужского становления.
Теперешний разговор не о Салиме, а о событии более чем десятилетней давности – моей женитьбе в возрасте тридцати четырех лет. Да, я был женат, имел дом и маленького сына. Многие мои друзья стали свидетелями этой истории, но никто из них не знал причины моего развода.
Это были сумбурные годы «перестройки»…
Растаял снег, и начало теплеть. Друг мой Оскен пригласил в свою мастерскую трех девушек и устроил пирушку, что-то вроде культурно-творческого вечера.
Оскен был уже семейным, однако к женским прелестям интереса не потерял и считался среди нас удачливым сердцеедом.
Скооперировавшись, мы, трое мужчин, накрыли богатый стол и кинулись развлекать девушек.
Ухаживая по мере возможностей, мы по очереди фотографировались, наяривали танцы под музыку, короче говоря, провели бесподобный, надолго остающийся в памяти, вечер.
На мою долю досталась пухленькая смуглая скромница по имени Тотыгуль.
Мы разошлись после полуночи. Я обнял свою девушку и увел ее в мастерскую. На следующий день я показал ей свою двухкомнатную квартиру, точно хотел похвастаться. Тотыгуль сделала уборку в моем запущенном жилище и перемыла с порошком всю посуду до глянца. Потом приготовила вкусную еду. И осталась со мной еще на несколько дней.
С тех пор она частенько захаживала ко мне, ласковая и жеманная. То заявится в мастерскую, а то может посреди ночи игриво звонить в дверь моей квартиры. Я постепенно привязался к томной и стыдливой Тотыгуль, даже полюбил.
Месяц спустя она сообщила мне, что беременна. Эта новость была для меня как гром среди ясного неба, но я не подал виду и промолчал. Я ничего не ответил девушке, но потом сотню раз взвешивал из ряда вон выходящее событие и смятенно размышлял над ним.
Прежде всего, я понял, что оно угрожало моей гражданской свободе и жизненным позициям. На ясное небо моего существования набежали тучи, спокойная жизнь нарушилась, будущее затуманилось.
Я долго думал, взвешивая на весах высокую цель искусства и околосемейные проблемы, искал пути их совмещения. В итоге, я пришел к выводу, что не так уж все плохо, и в этом вопросе можно найти решение. Не было ничего такого, чего можно было так страшиться и смущаться. Не все же мои коллеги ходили в холостяках. Скорее, нас, одиночек, можно было по пальцам перечесть, и потому мы выделялись, как бельмо на глазу.
Многие мои собратья по кисти имели семьи, детей. Этот факт нам был известен, более того, мы поддерживали с ними живое общение, то вознося им похвалы, то сурово критикуя. Несмотря на отягощенность семьями, эти художники тоже трудились в поте лица и создавали весьма приличные произведения. Слава богу, примеров для подражания достаточно.
К тому же, Тотыгуль была проворной и трудолюбивой, после ее прихода и мастерская, и квартира начинали блистать чистотой и порядком.
Голова моя шла кругом от дум.
В конце концов, я покорился Тотыгуль, и мы приняли решение пожениться.
Пригласив компанию друзей и коллег, мы сыграли шумную, бесшабашную свадьбу в небольшом кафе. Из Караганды приехали родители Тотыгуль и два ее брата.
С этих пор я понял, что теперь не один, у меня есть семья, жена, и постарался настроиться на новые обстоятельства.
094.
Дни летели, месяцы продвигались своим чередом. В Алматы пришла нескончаемая поздняя осень. В один из теплых деньков бабьего лета машина скорой помощи увезла Тотыгуль в роддом. На следующий день она благополучно разродилась пухленьким малышом, весом три килограмма, шестьсот граммов.
После того, как Тотыгуль оправилась от родов, мы нарекли сына и занялись оформлением свидетельства о рождении. Для этого потребовалось завизировать кое-какие документы, и Тотыгуль отправила меня к своему гинекологу.
Я пришел к врачу, но некоторое время мне пришлось ждать очереди. От скуки я стал изучать двойной листок. По общепринятому мнению, медики – странный народ, не имеющий представления о правильном письме. Почерк у них отвратительный, какие-то каракули…. Создается впечатление, что они даже в школе не учились, не говоря уже об университетах.
С трудом вчитываясь в эти каракули, я понял, что у Тотыгуль это – вторые роды. В сердце словно вонзили кинжал.… Я подумал, что это чужие документы, но вверху крупными буквами были выведены имя и фамилия Тотыгуль. Все же, надеясь на путаницу в документах, я решил расспросить врача. Но не успел и рта раскрыть, как пожилая врачиха опередила меня и поздравила с рождением второго ребенка. Вот тебе на…. Я не мог вымолвить ни слова, сидел, мрачнее тучи.
Взяв подписанные документы, пулей выскочил вон.
Несмотря на мои претензии к жене, сомнения, держался я сдержанно. Я не стал винить ее в том, что она путем обмана вышла замуж, не стал поднимать шума. Но мои чувства к Тотыгуль были попраны, и я сильно охладел к ней. Наши взаимоотношения теперь ограиичивались лишь супружескими обязанностями. В остальное время я изображал улыбку, повернувшись, уходил, делая вид, что не расслышал ее слов, стал поздно возвращаться домой, находя для этого уйму причин.
Спустя месяц я сидел в своей мастерской, перебирая фотографии той памятной вечеринки с тремя девушками. Мы вволю нащелкались тогда: танцуя, произнося тост, обнимаясь. Я долго рассматривал фотографию, где мы снялись с Тотыгуль, искал в образе девушки признаки лгуньи, аферистки. Но не смог найти ничего подобного и поразился этой загадке. Так я сидел, погрузившись в страдания, и вдруг увидел желтоватую дату на краю фотографии: пятнадцатое марта. Проклятье, именно этой ночью Тотыгуль осталась в мастерской со мной... Чего не сотворишь в опьянении, мы неверно поступили тогда, это я понял позже. Ладно, Саги вот родился, все простительно, все преходяще. Может быть, на некоторые явления следует смотреть философски, а не кусать пальцы и изводить себя самоедством? Забуду всё, прощу молодую жену, пусть и в наш дом придут радости и праздники...
Тотыгуль собиралась провести сороковины Саги и делала приготовления. И моему сыну уже исполнилось сорок дней. Он родился седьмого ноября, раньше это был всенародный праздник с парадами и флагами. Ветер «перестройки» нещадно выявлял изнанку революции, громогласно разоблачал и порицал ее. Видимо, поэтому бывшее грандиозное значение этого праздника рассеялось. Ладно, какое мне дело до большой политики, меня это не касается. Если праздник отменят, то седьмое ноября отныне будет праздноваться как день рождения моего сына... И Тотыгуль молодец, родила ребенка за восемь месяцев. Восемь месяцев... Почему не девять? Интересно...
Опять во мне зародилось сомнение, и в сердце закралось подозрение.
Я позвонил знакомому врачу, чтобы развеять их. «Может ли женщина родить восьмимесячного ребенка?», - спросил я. «Такие случаи встречаются редко, в основном рожают в семь или девять месяцев», - ответил мне знакомый медик и добавил: «Восьмимесячный ребенок рождается неразвитым и слабым». Но Саги наш был толстеньким и круглым. И грудь сосал хорошо, причмокивая, сон у него тоже был спокойным. И плакал громко, во всю мощь легких. Сказать «слабый» даже язык не поворачивался.
Эти «восемь месяцев» снова лишили меня покоя.
Я, не откладывая в долгий ящик, отправился к той врачихе, чтобы от нее лично узнать точный возраст моего сына. «Девять месяцев, все верно. Все правильно, сын ваш родился вовремя, не переживайте», - тепло ответила она, ласково похлопала меня по спине и проводила восвояси.
Этого еще не хватало...
Что это получается, и Саги – не мой сын?! Да еще до него был ребенок... Это же не по-людски, вопиющая несправедливость, разрывающая душу ошибка... От безутешного горя у меня выступили на глазах слезы. Сознание замутилось, пришло горькое разочарование во всем. Я пошел к Тотыгуль и вызвал ее на открытый разговор. Она пыталась оправдываться, но я привел ей неоспоримые доказательства и заставил сделать признание. Оказалось, что она полгода жила в Караганде в гражданском браке с одним парнем. Потом он, увиливая и ссылаясь на разные обстоятельства, оставил ее. Тотыгуль была вынуждена сделать аборт. Потом приехала в Алматы и устроилась в кафе официанткой. Тогда-то она и пришла в гости к Оскену с двумя подругами. Историю Саги Тотыгуль не выдала, молчала, будто ей рот заклеили. Это ее гробовое молчание ввергло меня в еще большие подозрения. Я испытал муки теленка, обреченного на заклание. В конце концов, мы тихо расстались, не устраивая громкого скандала и препираний. Квартиру поделили поровну, теперь у каждого у нас было по однокомнатной.
Мои любовные истории на этом закончились.
С тех пор я опасался женского пола. А теперь вот, приехал на Алтай и нежданно-негаданно так круто переменился. Что же это такое?
095.
Я долго сидел на сопке, думая о разном.
Миновал полдень. Дом внизу был как на ладони, глаз охватывал кусок сверкающей Бухтармы. Ярко-желтая Матайская долина также расстилалась передо мной. Даже воды далекой Курти нет-нет да блеснут на солнце, играя, как глазок перстня.
Во дворе, собирая утварь, ходил Мунарбек. Да, а когда успел приехать этот сорванец? Я и не заметил... Рыжуху, на которой ездил в аул, он привязал под березой на задворках дома. Судя по этому, спешился недавно. Время от времени он обследовал округу в бинокль. Видимо, меня искал..., наконец, нашел. Обрадовался, замахал поднятыми руками. После этого Мунарбек повесил бинокль в углу дома и торопливо направился ко мне. Именно в этот момент со спины мне послышался жалобный детский плач. И сразу Алтай как будто нахмурился, и холм, на котором я лежал, глубоко, утробно вздохнул. Я испугался... Приговаривая «бисмилла, бисмилла», вскочил с места.
Не зная, откуда слышался детский голосок, я оглядывался по сторонам. Горный стон словно исходил из самой преисподней, а вдруг сейчас землю тряханет? Стоя с выпученными глазами, я сглатывал, чтобы избавиться от заложенности ушей, потирал уши, ковырял их мизинцем, прочищал. Что с ними? Оглох я, что ли? Но ни детский плач, ни приглушенный глубиной горный гул не повторились... Получалось, что это была галлюцинация. Вероятно, на высоте поднялось давление, сдавило верхние челюсти и в ушах зазвенело. Все же мне следует прекратить так часто подниматься в горы.
Только теперь я увидел, что за узкой тесниной, что с севера моего пригорка, раскинулась топкая лощина. Она была просторной как кочевье, и необозримой, словно мираж.
Когда я озирал лощину, то наткнулся взглядом на плоский камень сбоку. На камне, свернувшись, лежала серая змея. Как я не заметил ее раньше? Похоже, грелась на солнце, неподвижное тело ее мерцало в солнечных лучах. Ох и омерзительный вид был этой у гадины, по всему телу пробежала холодная дрожь.
Подобрав обломок сука, я заколотил им по земле. Змея нехотя начала разворачиваться, потом, извиваясь, пропала в зарослях можжевельника.
Всё еще ощущая в теле неприятную дрожь, я поднял с земли куртку и принялся отряхивать ее, выворачивать наизнанку, проверять, будто мог обнаружить там еще одну. Наконец, оделся.
Неуклюже подпрыгивая на ходу, подошел Мунарбек.
Для того, чтобы взобраться на этот холм, у меня ушел почти час, ему же понадобилось всего пятнадцать-двадцать минут!
«Конечно, что стоило такому джигиту одолеть холм. У него же ветер в волосах играет!»
096.
- Эту красивую лощину я не видел прежде, - сказал я, бросая взгяд на охристую балку. Мунарбек быстро оглянулся:
- Туда нельзя ходить! – воскликнул он, беря меня под локоть, будто я собирался в эту лощину.
- Что случилось? – спросил я испуганно.
- Это преданное проклятию ущелье Каргыба.
- Что? «Преданное проклятию»?
- Да, преданное проклятию... Ночью оттуда слышатся детский плач и рыдания матери. Говорят, такие плачущие голоса иногда и днем слышатся. Это страшное место скорби, поэтому туда никто не ходит.
«Ба-а-а, что этот джигит мелет?»
- Плачущие голоса... ты сам их слышал?
- Нет, не слышал. Но старые люди хорошо знают. Мой покойный дед тоже рассказывал... «В сторону Каргыба не ходи», - пугал он меня. Поэтому я сюда ни ногой и, когда охочусь, обхожу стороной эту лощину.
- И что там за тайна такая?
- Табунщик Ерсайын как-то искал своего коня и забрел в Каргыба. В густой траве он увидел обломки юрты – кереге, шанырак, - человеческие и конские кости. Они белели среди травы.
- Что это за кости?
Мунарбек немного помялся, затем рассказал мне старинную историю, которую когда-то поведал ему отец.
...Это был конец двадцатых годов, время жестоких гонений и кровавой резни.
Какое-то казахское племя, перекочевывавшее в Китай, решило перейти границу через вот эту Каргыба. Об этом прознали красные и сделали здесь засаду. Потом взяли большое кочевье со всех сторон в оцепление, направили на людей пулеметы и перестреляли всех до единого. И никого в эту балку не пустили. Даже собрать останки людей не разрешили. Маленькие детишки, так и остались, истошно плача, на груди расстрелянных матерей. И к ним не подпустили. В конце концов и дети, заходясь плачем, постепенно поумирали от голода. С тех пор из ущелья временами раздается плач младенца, ищущего свою мать, и протяжный голос матери, оплакивающей ребенка.
Я, разинув рот, слушал рассказ Мунарбека. Что же это, легенда или быль? Верить мне его словам или не верить?
Пронзительный плач детей и матерей, уничтоженных красными. Я ведь и сам в эти дни несколько раз слышал его...
097
Внизу, на переправе показались всадники.
Двое. Они наискосок переправились через реку. Интересно, куда же держат путь. Конные, никуда не сворачивая, прямиком поехали в Тайпак.
Я понял, что эти гости были по мою душу. Кто же они?
Кто б это ни был, не пристало нам козами прыгать по горам и скалам, когда гости на пороге. Мы с Мунарбеком начали спуск.
Ба-а-а, вы только посмотрите!
Войдя во двор, я вскинул бинокль. Оказалось, что всадники - женщины. А когда они спустились в теснину и показались из-за выступа, я узнал их: это были мои дорогие Салима и Гульзина!
- Земля слухом полнится... Узнав, что ты завтра уезжаешь, вот приехали попрощаться. – заговорила Салима, еще не сходя с коня.
Первым делом я помог спешиться моей старой знакомой. Затем принял на руки Гульзину.
- Рад! – сказал я, не в силах скрыть своей благодарности Салиме.
Я не узнал собственного голоса. Это был чужой голос. Единственное слово вышло из моего горла с дрожью, приглушенно.
Но все равно женщины, кажется, поняли меня.
-Конечно, кому же не радоваться, как тебе? – сказала Салима и прошла мимо, кокетливо взглянув на меня.
Гульзина была очень бледной, черты лица скорбно приопущены. Она пыталась улыбаться, но печаль, поселившаяся в глазах, не могла осветить ее облика. Сдается, весть о моем отъезде ранила ее сердце.
Женщины привезли с собой еду. В связи с похолоданием, мы уже два дня как перенесли стол в комнату. Теперь снова выставили его на веранду.
Они вдвоем вмиг уставили дастархан всякими вкусностями. Мы с Салимой пили вино. Гульзина лишь пригубливала. Я спросил, как они, не боясь, переправились через Бухтарму. Женщины сообщили, что сегодня вода в реке порядочно опустилась.
Они не стали задерживаться, ссылаясь на то, что коней взяли на несколько часов, и близилось время возвращать их.
Вскоре Салима скрылась за домом, якобы по нужде. Понятливая женщина, все понимала и чувствовала... Хотела оставить нас с подругой наедине.
- Агай, счастливого вам пути, - произнесла Гульзина, глядя исподлобья своими большими глазами. – Я-то надеялась, что вы еще побудете... Не думала, что радость моя будет такой короткой.
- Не говори так, солнце мое... Мы теперь всегда будем вместе.
- Вашими бы словами да мед пить. Но все равно на сердце неспокойно.
- Я очень огорчался, боясь, что не смогу больше тебя увидеть и проститься.
- У меня то же самое... Весть о вашем отъезде просто ошеломила меня.
- Может, сегодня останешься здесь?
- Я бы с радостью, но не получается... Рано утром из Ореля приехали свекровь и сын. Они ждут меня. Не расстраивайтесь!
- Тогда я после приезда в Алматы приведу в порядок свой дом, дела и приготовлюсь. Потом вызову тебя телеграммой.
- Я с вами готова хоть на край света идти.
- Спасибо, моя дорогая!
Я обнял Гульзину и прижал ее к груди, понюхал волосы, поцеловал в пунцовые губы.
- Жди от меня весточку! – прошептал я ей на ухо.
На глазах Гульзины появились слезы, она молча кивнула.
Следуя тому же порядку, я сперва подсадил на коня Салиму.
-Я вижу, любовь ваша прямо как у Кыз-Жибек и Толегена? – улыбнулась Салима. – Даже завидно становится... Где же ты был раньше?
- Раньше был рядом с тобой, сама прогнала.
- Откуда мне знать, вроде был мямлей и лопухом. Где ты научился так покорять сердца девушек?
- Сначала ты дала мне урок. Остальному жизнь научила.
Повернувшись в седле, Салима бросила на меня взгляд. Только что игравшие ее глаза, вдруг подернулись влагой.
Перед тем, как садиться на лошадь, Гульзина что-то вложила в мой карман.
- Блокнот, - сказала она, улыбнувшись. – Там посвященные вам тайны моего сердца... Сейчас не смотрите, когда приедете в город, прочтете, не спеша.
Взявшись за стремя Гульзины, я проводил всадниц на некоторое расстояние.
И даже после того, как гостьи переправились через реку, я долго стоял, неподвижно глядя им вслед.
098.
Едва войдя в дом, я сунул руку в нагрудный карман.
Она сказала: «Прочтете в городе», но я ведь не железный, где уж мне стерпеть, пока буду в городе….
Стемнело, строчки в блокноте стали сливаться, и я зажег керосиновую лампу, подкрутил фитиль.
И тут же принялся читать записи, страницу за страницей. И не смог оторваться. Сначала я не понимал, кому посвящены четко выписанные красивые слова, не мог уловить их смысла. Позже, когда до сознания моего дошло, что это не обычная книжка, что все сокровенные чувства, описанные здесь, предназначены мне, щеки мои запылали, и бросило в жар. Сердце мое начало таять, и я впал в полуобморочное состояние, точно тонул в медвяном соку счастья.
Ах, как все сложилось! Аллах свидетель, не шутил я, не затевал любовных игр. Все было правдиво, все по-настоящему! Я не скрываю, что вначале хотел влюбить в себя девушку. Потом понял, что и сам нечаянно заразился любовным недугом. Нюхать пахнущие солнцем волосы Гульзины, нежно ласкать белую шею, целовать в блестящие глаза, - было для меня безграничным блаженством. Но…
Но я не думал, что бывает такая чистая любовь, такое бурлящее чувство! Это не чувство, а прямо вулкан…
«Я тоже не так прост, оказывается, что сумел завоевать любовь такой красавицы, как Гульзина!»
099.
Было видно, что записи в блокноте написаны в разное время и при разных обстоятельствах...
«Душа моя, Агатай!
Я в последнее время словно совсем в другом мире обитаю. Сладкая мечта лелеет мою душу, и не только мечта там поселилась, но и грусть. Возможно, поэтому я взяла в руки перо и написала много стихов, посвященных вам.
Я не поэт, но в минуты сердечных волнений стихи рождаются сами собой. Вы никогда не прочитали бы этих стихов, не узнали бы о них, не увидели б их. И все же я решила открыться вам, погрустить с вами таким способом.
Я не знаю, что со мной, но во мне живет неизведанное прежде большое чувство и стремление к вам.
До сих пор никто не понимал меня, только вы приняли мою одинокую раненую душу, уважили ее. Моя встреча с вами явилась для меня огромным счастьем. Ага, я тысячекратно благодарна Аллаху за то, что на далеком плато Алтая встретила человека, о котором всечасно молила Небо.
Улыбаясь мне ласковым взором,
Ты ушел, мое сердце похитив.
К тучам шелковым взял в дорогу,
Я ж голубкой была беззащитной.»
На следующей странице:
«Надежды нить оборвалась, и пала вера,
И дух мой, убывая, истощился,
Я яркий свет в очах твоих узрела,
Как от лучей, что из луны пролился».
Далее она опять перешла на прозу:
«Опора моя!
Наверняка под этим небом нет женщины, счастливее меня. Язык мой беден, чтобы передать то исполинское чувство, что наполняет меня. Видимо, это и есть «женское счастье», о котором говорят в народе!
Душа моя, Ага, я сейчас плачу, думая о вас. Верно, боюсь потерять вас. Ах, как сильно я вас люблю!»
В блокноте лежало узкое, вдвое сложенное письмо, датированное восьмым октября. Оно было написано несколько дней назад, Гульзина даже не успела послать мне его.
«Я дома одна.
Свекровь моя, взяв Мурата, уехала на неделю в Орель, к своим родственникам со стороны матери. На днях уже должны вернуться.
Не знаю, почему, в последние дни я стала много думать о вас. Иногда чувства волной подкатывают к самому горлу, вызывая в руке с ручкой дрожь. Я поняла, что вы – тот самый человек, которого я всю жизнь ждала и лелеяла в своих мечтах. Вы стали поддержкой моей отчаявшейся, осиротевшей душе. Тысячу раз благодарю судьбу за встречу с вами.
Я многое почерпнула из ваших рассказов. Вы, несомненно, значительная личность в искусстве, подлинный талант. Вы находитесь на пути к большой мечте и упорны на этом поприще, поэтому вы добьетесь своей цели. Я поняла это и поверила в вас.
Когда подумаю об этом, меня охватывает робость: смогу ли я подарить вам радость, достойна ли я такого маститого художника, как вы. Однако мне хочется стремиться к гармонии с вашей благородной личностью.
Я до смерти люблю вас, люблю чистой, искренней любовью, Ага. При встрече я не смогу сказать вам таких слов, а вот, когда пишу, словно все нутро мое очищается, а грудь становится шире, и дышится легче.
Душа моя, Ага, пусть стыдно, но все же скажу: я всю свою жизнь посвящаю отныне вам, вашему жизненному пути. Не судите меня за откровенность, эти строки мне диктует бурное чувство, настолько великое, что ему тесно в моей груди. Я не могла не сказать об этом, вы должны знать. Жить с этим чувством будет очень трудно. Но я все вынесу, все вытерплю!»
Что же было восьмого октября? Да это же письмо написано после наших блужданий в горах! Мы тогда остались под грозой и переночевали у Акулины. Река вышла из берегов, Гульзина не смогла уехать и на второй день. Только на третий появился Мунарбек со второй лошадью на поводу и увез ее. Это были золотые денечки... Письмо Гульзины говорило о том, что те дни произвели сильное волнение не только во мне. После того раза нам не удалось встретиться. Значит, это было не письмо, адресованное мне, а доверенная бумаге ее душевная тайна.
Я перелистывал блокнот, и словно с каждой страницы сыпались жемчужины чувств.
«Такой судьбы не ведала я ранее,
Огнем груди своей зажег мою надежду.
Чем пламенем пылать, не умирая,
Уж лучше бы сгореть в твоих объятьях нежных».
Я снова и снова листал блокнот, поглаживал обложку и впадал в глубокие думы. Я старался вникнуть в каждое написанное ею слово, ничего не упуская, уловить их смысл. Чем больше читал я, тем сильнее эти строки задевали струны моего сердца, тем большему волнению предавали.
Воистину, я – самый счастливый из всех смертных на этой земле.
100.
В райцентре я один день гостил в доме друга Ералы, а наутро выехал в дорогу. Между райцентром и городом безостановочно носились такси. Соперничая друг с друга, таксисты буквально хватали за руку: «Ко мне садись, ко мне!». Ералы сам выбрал подходящий транспорт, посадил меня, оплатил дорогу, и мы с ним распрощались.
Спустя сутки я добрался до Алматы. Едва успев приехать, принялся приводить в порядок свое хозяйство: нашел людей, чтобы вытряхнули пыль, почистили, помыли. Обновил интерьер квартиры, мне сделали косметический ремонт – побелили, покрасили.
На почетном месте я повесил рога подстреленного мною на Алтае горного козла. За этими хлопотами незаметно пролетело около двадцати дней. В суете этих дней я ни мгновения не забывал про Гульзину. Она всегда была со мной, и когда я копошился, что-то делая по дому, и когда спешил куда-нибудь по улице. Каждый раз, до самого сна, перед моими глазами вереницей проходили картины моего отдыха на Тайпаке. Гульзина и в самом деле стала самым ярким событием моей жизни. Она ослепила меня светом взошедшего солнца, опалила жарким огнем. В те дни душа моя, все существо мое словно очистились. Некое высокое чувство ласкало мое сердце. Грудь распирала ликующая радость.
Я вернулся с Алтая, поправив здоровье и восстановив силы. Побывал на родной земле, с которой давно утерял связь, и возвратился обновленным, точно переродился. Там я испытал радость обретения утраченной было сути своей, восстановления творческого вдохновения. Но самое главное – я встретил Гульзину, красивую девушку с кристально-чистой душой.
Когда я был в райцентре, до меня дошел слух, что нашелся пропавший муж Гульзины. Кто-то встретил его в городе и попросил у нее суюнши – подарок за радостную весть. Это вызвало во мне удивление: «Кто же просит суюнши за сбежавшего мужа?». Какой негодяй поднял этот переполох среди людей? Да ладно, пусть развлекается, теперь нам с Гульзиной не опасен ее беглый муж. Зачем ей этот дезертир, заставивший ее столько страдать? Наша любовь прочная, и Гульзина - моя навеки. Я осознал это и поверил в то, что до самой смерти не расстанусь с ней. Из аула я уехал с этой твердой верой в глубине сердца.
101.
После того, как в моем доме воцарились порядок и чистота, я собрался написать Гульзине. Пока я обдумывал, не зная, как начать, вдруг пришло письмо от нее самой.
Но радость моя оказалась напрасной...
Содержание письма было совсем иное, совершенно неожиданное. Вообще, слабость мужчины, даже появление слез на глазах я считал непристойным, не говоря уже о рыданиях в голос. До встречи с Гульзиной я бы не проронил ни слезы, пусть даже озолотят. Когда дело касалось проблем с женщинами, я был сух, как камыш, и тверд, как львица на страже своего выводка. Но после поездки на Алтай я заметил, что стал мягче, чувствительней. Когда я пробежал глазами письмо Гульзины, точно небо обрушилось на землю. И я потерялся. Грудь мою пронзила адская боль, точно сердце вырвали вместе со всеми жилами. Мысли рассыпались. Глаза наполнились слезами.
«Душа моя, Ага! Всю жизнь я буду лелеять вас в своем сердце, - так начала Гульзина свое письмо. – Что поделаешь, видимо, Аллахом не суждено нам быть вместе, вдвоем идти по жизни.
Ах, какая жалость! Как бы я заботилась о вас, не давая пылинке опуститься на моего дорогого... Но мы бессильны перед судьбой, она выбрала другое русло.
Я в обиде на жизнь, не позволившей мне встретить вас раньше. И у меня, как у всякой женщины, было право на счастье, но, видно, мне выпало жить, лишь грезя о счастье.
После вашего отъезда я долго думала. Свекровь моя давно мне заменила родную мать, я говорила вам об этом. Ей почти восемьдесят, и я ее опора. Сыну исполнилось восемь лет, уже стал кое-что понимать. Куда мне девать их, если я поеду за вами в город? Как ни любила б вас, я ведь прежде всего – мать... Как я могу сделать несчастными их в погоне за своим счастьем? Вы же знаете, нельзя построить счастье на несчастье других.
Через три дня после вашего отъезда заявился мой муж, измученный, голодный. Словом, кое-как кости притащил. Бормочет что-то под нос, толком не может объяснить, где пропадал. Да, я вполне могла прогнать его. Но ведь он – отец моего ребенка. К тому же в доме сидит его престарелая мать. Жаль мне стало его, дошел совсем. Куда он пойдет опять бродяжить?
Вы любите меня, я знаю. Скажете: «Я усыновлю ребенка». Но как бы вы ни любили меня, отцом моему ребенку стать не сможете, потому что чужое дитя никогда не станет родным, все равно будет для вас «некровным». Худое это слово. Такова истина, у казахов это в крови, пережиток старых обычаев. От этого ни один мужчина-казах несвободен. И вы так же поступите.
Пусть на короткое время, но все же вы одарили меня радостью, сделали счастливой. Благодаря вам я узнала впервые, что такое любовь. Вы стали для меня величайшим событием, которое не забудется в обоих мирах. Я безгранично благодарна за все, любимый мой!
И первая, и последняя моя любовь – это вы.
Оказалось, что вы – заветная мечта всей моей жизни, сокровище, которым мне не дано обладать. В самый первый день нашей встречи я была удивлена, поймав на себе ваш ласковый взгляд. Ведь это была та самая прозрачность, то безраздельное чувство, которое тщетно я искала у других. И я сама пожелала так все устроить, чтобы быть с вами.
Потом, в наши проведенные вместе дни я была бесконечно счастлива. Ночевать где-то на стороне с чужим мужчиной потребовало от меня большого мужества. Я расценивала это как преступление. Но все-таки провела с вами несколько ночей и не жалела об этом.
Наоборот, затем я каждый час искала встречи с вами. Я безмерно радовалась тому, что заоблачная моя мечта воплотилась рядом с моим аулом, в Тайпаке. Я молила Бога о том, чтобы радость моя была долгой, чтобы никто не сглазил ее. Дни без вас были постылы, я украдкой оплакивала их. Вот так я любила вас.
Как несправедлива судьба, если б я встретила вас раньше, мне бы не пришлось так страдать...
Прощайте, дорогой мой Ага! Я думаю, нам не стоит переписываться. Зачем понапрасну бередить раны наших сердец?
Всю оставшуюся жизнь я буду лелеять вас в своем сердце. Ваша Гульзина».
Не веря тому, что обстоятельства так резко поменялись, я снова и снова перечитывал письмо. Голова моя шла кругом, будто я объелся белены. Сердце защемило, во рту появился неприятный привкус. Как утопающий хватается за соломинку, я искал, за что зацепиться, на что надеяться. Но, не найдя ничего, ужасно мучился.
Однако время шло, и мне пришлось смириться со случившимся. Говорят, от участи своей не уйдешь. В том, что так все произошло, и судьба повернулась к нам изнанкой, я обвинял только себя.
102.
Сделав идеалом искусство, я отрекся от женского пола, от таких понятий, как любовь, семейное счастье. Истинно так. Я признавал и то, что в суете не заметил огромного пласта жизни. Получалось, что достижений у меня не так уж много.
Я был талантливей многих моих коллег, однако по сей день не стал новатором в большом искусстве, не сумел оставить там следа. У этого грозового времени с колдовскими миражами оказалось много извилистых троп.
Вон мой однокурсник Сарсенгали и Государственную премию отхватил, и ордена-медали. Мало было ему наград, так этот пройдоха в прошлом году выпустил альбом со скатерку размером, творчеству своему посвятил. Его картины висели на стенах офисов многих министерств. Вроде бы обучался живописи, а теперь заделался «знаменитым скульптором». Штампует себе казахских батыров и бахадуров, будто видел их собственными глазами. Разбогател, пожиная лавры и славу. Завязав близкие отношения с городским акимом, оттяпал у подножия Коктюбе участок земли. В какие-то год-полтора построил на нем коттедж, равный ханскому дворцу. Завел вторую жену и от нее сейчас двух детей имеет...
А я хожу, забавляясь лишь данной мне свыше удачей. Неизвестно, что я выиграл, стремясь к чистоте совести, правдивости произведений, довольствуясь пустыми мечтами. А выиграл я немного, ни в искусстве, ни в жизни не достиг своих целей. И вот иду я ни шатко, ни валко, как ленивая лошадь, которую одолели мухи.
Бедные годы мои, проведенные без любви, разве вернутся они?
Гульзина ведь была светом моих очей, любимая моя, взлелеянная избранница.
Когда в сердце поднимается боль, я и теперь впиваюсь глазами в блокнот Гульзины. И словно нахожу там тепло для души, усладу для сердца. Я знаю, что за этим кроется обман, но все же вот эти строки погружают меня в безграничное счастье:
«С тобою с моих чувств упала пелена,
Сиянием твоим окуталась душа.
Мираж туманный на горе, ты видел?
Я той же тайной и тоской полна».
«Жаным-Ага, скучаешь? Я скучаю,
Аульным ветерком тебя я приласкаю,
Я небо о тебе молила многократно.
Кто знал, что на земле тебя я повстречаю?
Приди, Ага, я по тебе скучаю».
«Зачем вернулся, что искал ты на Алтае?
Сияньем нежным разбудил меня, спала я.
Зарей рассветной обернувшись и лаская,
Исчез, Ага, со снегом белым, тихо тая».
* * *
Художник Жанимхан прочитал эти строки и задумался. Закурил, пуская кольца дыма.
- Раньше я эту гадость в рот не брал. Начал курить с тех пор, как приехал с Тайпака. Теперь вот не могу бросить, - сказал он, точно оправдываясь, погасил сигарету плевком и бросил окурок в пепельницу.
- Я с той поры не ездил на Алтай, - произнес он, приподнимая брови. – Не довелось. Но задуманную картину все же написал. Два года трудился над ней. Я выставил ее, сейчас она в Галерее, будет время, может заглянешь.
* * *
Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.
Я собирался лететь в Астану поздним вечером, свободного времени было достаточно. Все еще под впечатлением от рассказа Жанимхана, я смятенно стоял на улице. Тут мне вспомнилось его пожелание. И я, не медля, отправился в Галерею.
Огромное полотно Жанимхана я узнал сразу, оно находилось на втором этаже...
Картина висела на самом видном месте, занимая собой полстены. Тот самый сюжет, о котором он рассказывал. Два марала с налитыми кровью глазами стояли, уперевшись рогами друг в друга. На заднем плане – стадо куцехвостых важенок, наблюдающих за битвой испуганными глазами. Другая группа, не обращая внимания на дерущихся самцов, мирно паслось с краю, белея пахом.
Я еще не приблизился к картине, пока созерцаю издалека. Со всего полотна, светло-коричневыми и пепельно-серыми тонами изображающего осень, веяло прохладой и драматизмом.
Перед картиной собралась группа зрителей. Они беседовали между собой, обмениваясь мнениями, делая философские выкладки вокруг таких понятий, как жизнь, любовь, борьба. Перешептываясь, качали головами. Судя по этому, обширное полотно никого не оставляло равнодушным.
Я подошел поближе и со всем вниманием приступил к изучению нового произведения моего земляка. Прежде всего, мне понравилась смелость композиционной структуры картины. Впечатляюще и точно были показаны унылое состояние природы, мимолетная красота утренней поры. Безусловно, это был большой успех, венчавший многолетние поиски Жанимхана на пути искусства, пик его мастерства, вершина творчества.
Травянистая равнина на переднем плане, неясные очертания горных вершин на втором и третьем планах, подернутые дымкой хребты... Каждый, кто видел это, как бы начинал дышать полной грудью и наслаждаться упоительной чистотой утреннего воздуха. Слух словно улавливал прекрасную мелодичную музыку, лившуюся из картины и касавшуюся сердечных струн.
Я хорошо знаю, что добиться такого мастерства в сочетании красок - пожизненная мечта каждого художника. Дружище Жанимхан, кажется, достиг этой цели. Охваченное на картине широкое панорамное пространство соответствовало большому размеру полотна. Помимо этого, в нем чувствовались монументальная торжественность и эпический размах.
Это гигантское полотно было гимном матери-природе.
«Интересно, как Жанимхан назвал свою картину?» – подумал я.
Нагнувшись, я взглянул на нижнюю часть багета. Предположения мои не шли дальше таких названий, как: «Схватка маралов», «Поединок». Но я ошибся.
На тоненьком кусочке латуни, прикрепленном к багету, была надпись: «Посвящается Гульзине».
Перевод с казахского Раушан Байгужаевой
Сондай-ақ оқыңыз: